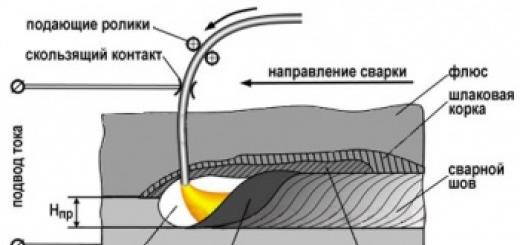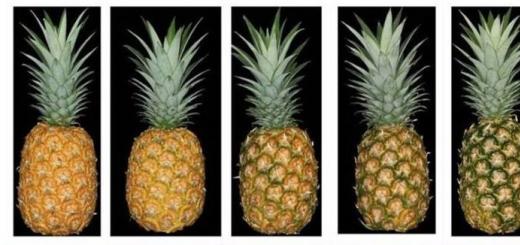Греческое слово akme – высшая степень чего-либо, цветущая сила. Акмеисты именовали себя также «адамистами». Они усматривали в своих стихах «обнаженность», нагую ясность образа. Печатаясь в журнале «Аполлон», они призывали к возврату в мир образов и идей классической русской поэзии, к возрождению точного, однозначно ясного слова, не отягощенного многозначными символистскими иносказаниями и подтекстами. Таким образом, акмеисты выступали в оппозиции к символизму. Группа акмеистов (Ахматова, Гумилев, Г. Иванов, О. Мандельштам, М. Зенкевич, В. Нарбут и др.) именовалась «Цех поэтов». С символистами, впрочем, их роднила любовь к культуре прошлого, которая сочеталась с глубокой осведомленностью (все акмеисты, кроме Г. Иванова, были чрезвычайно образованными, чего нельзя сказать о футуристах). Ранние стихи Ахматовой воспевают «золотой век» русской духовности – пушкинское время. От футуристов (тоже «оппозиционеры» по отношению к символизму) акмеистов отличала их асоциальность , отсутствие интереса к общественно-гражданской проблематике. Образы мировой мифологии, культурно-исторического прошлого, приключенческие сюжеты, экзотика. Следовательно, акмеисты противостояли утилитаристским тенденциям в искусстве. Культурно-исторические стилизации. В отличие от символизма, стилизация здесь просто традиционный художественный прием. Наиболее крупные представители акмеизма – Ахматова, Гумилев, Г. Иванов, О. Мандельштам. Под влиянием акмеизма сформировались поэты русской эмиграции 20 – 30-х гг., а также советские поэты Н. Тихонов, Э. Багрицкий и др.
Николай Степанович Гумилев (1886 – 1921) – организатор и крупнейший теоретик группы акмеистов. Книги: «Путь конквистадоров», «Романтические цветы», «Жемчуга», «Чужое небо», «Колчан», «Костер», «Фарфоровый павильон» и др. Символистам он противопоставил вещность мира, дух реальности. Три периода творчества: начало (две первые книги), путь к зрелости (от «Жемчугов» до «Колчана») и классический, вершинный. О первой книге «Путь конквистадоров» Брюсов сказал, что стихи этой книги «только перепевы и подражания, далеко не всегда удачные». Перепевы Белого, Блока, Бальмонта, Брюсова. Но Брюсов предсказал взлет Гумилева. «Романтические цветы» показали, что лирик Гумилев тянется к эпосу, что сюжет и хара ктерность присущи его манере. Воля к жизни, мужество в преодолении препятствий, страсть к путешествиям – все это, закрепленное в энергичных стихах, определило стиль Гумилева и говорило о перекличке с Киплингом. «Жемчуга» – переход от ученичества к самостоятельности. Брюсов в рецензии на книгу говорит о движении поэта «к полному мастерству в области формы». Книга населена историческими, мифологическими и литературными персонажами: потомками Каина, воином Агамемнона, маркизом де Карабасом, Дон Жуаном, Беатриче, Одиссеем. Торжествуют история и история литературы. Тетраптих «Капитаны». В начальную пору своего развития Гумилев стремился быть не поэтом-пророком, а поэтом-мастером. Язык и стих, ритм и интонация, живопись словом и музыка стиха – все это интересовало Гумилева. Фанатичное упорство в работе над стихом. Гумилев: «Новая поэзия ищет простоты, ясности и достоверности. Забавным образом все эти тенденции напоминают о лучших произведениях китайских поэтов…» Гумилев устанавливает связь между китайской поэзией и поэзией акмеистов (на практике он это делает, например, в книге «Фарфоровый павильон»). В последний период своего творчества Гумилев «вне школ и систем». Он перерос все программы и уставы. В стихотворении «Рабочий» он предсказывает свою судьбу и кончину. «Шатер» (1921) – книга скитаний: стихотворения «Красное море», Египет», «Сахара», «Суэцкий канал», «Судно», «Абиссиния», «Замбези». «Огненный столп» (название взято из Ветхого Завета) – последняя книга. Ядро книги – стихи историко-философского содержания, остро прикасающиеся к основным вопросам бытия. Это «Память», «Слово», «Шестое чувство», «Заблудившийся трамвай» , «Мои читатели». Образы насыщены библейским содержанием. В поэзии Гумилева заметен внутрилитературный синтез (по линии поэзия – проза) . Т.е. прозаизация поэзии (см. цикл «Капитаны»: третье и четвертое стихотворение – стихотворные новеллы. Типично прозаическая сюжетность). Часто стилизует в стихах приключенческую прозу . Обилие сюжетных стихотворений «балладного типа». А ведь баллада – «на полпути» к прозе. Она излагает сюжет равномерно и подробно. «Новеллы в стихах»: «Озеро Чад», «Помпей у пиратов», Варвары», «Паломник», «Леонард». Чаще всего проза соприкасается у Гумилева с поэзией в форме реминисценции, на уровне отдельной детали. Так, в «Заблудившемся трамвае» – сюжетная фантасмагория с реминисценциями из «Капитанской дочки» Пушкина. Гумилев – один из зачинателей русского верлибра – «поэзии без стихов» («Мои читатели» и др.).
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Реферат на тему
«Акмеизм. Гумилёв»
Акмеизм
Акмеизм в русской литературе возник как реакция на кризис символизма, идеалы которого уже не соответствовали запросам времени. Стремление к вселенским преобразованиям, мистическим переживаниям, поиски сокровенных тайн души уходят в прошлое. О «символическом тумане» начинают говорить скептически. Космическое мироощущение в сознании многих авторов уступает место интересу к проявлениям реальной жизни и ее красоты. Прощаясь с символизмом, С. Городецкий писал:
Прости, пленительная влага
И первоздания туман!
В прозрачном ветре больше блага
Для сотворенных к жизни стран...
Назвать, узнать, сорвать покровы
И праздных тайн и ветхой мглы.
Вот первый подвиг. Подвиг новый --
Живой земле пропеть хвалы. 1909
С. Городецкий и Н. Гумилев создают новое литературное течение -- акмеизм. Н. Гумилев писал о нем так: «На смену символизму идет новое направление, как бы оно ни назвалось, акмеизм ли (от греч. а kme -- высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора), или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь), -- во всяком случае, требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем это было в символизме. Однако чтобы это течение утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником предшествующего, надо, чтобы оно приняло его наследство и ответило на все поставленные им вопросы. Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом».
Акмеизм так же, как и символизм, не принимал серую будничность и революционные взрывы. В объединение «Цех поэтов» входили С. Городецкий, Н. Гумилев, А. Ахматова, О.Мандельштам, М. Кузмин, М. Зенкевич, В. Нарбут. Само название «Цех» было выбрано в пику символистской «богоизбранности поэта», звучало приземлённо, предполагая в поэтах прежде всего работников, тружеников. Н. Гумилев предлагал отказаться от сплошной символизации мира. О. Мандельштам говорил о возвращении слову предметной тяжести, «вещности». Общая цель акмеистов сводилась к тому, чтобы «живой земле пропеть хвалу».
Настоящую, истинную красоту акмеисты видели в прошлом. Они возрождали старинные жанры: пастораль, идиллию, мадригал и т. д. Главным печатным органом акмеистов стал журнал «Аполлон» (1909), задуманный как образец ясности, гармонии, соразмерности, стройности.
В своих стихах акмеисты иногда создавали искусственные миры, наполненные экзотической красотой. Как в калейдоскопе, в них чередуются старинные вазы, бронзовые подсвечники, придворные дамы, южные страны, прогулки, бытовые сценки. И поэтов, и художников «Мира искусства» (К. Сомов, А. Бенуа, Л. Бакст, С. Судейкин и др.) интересовала прежде всего «эстетика» истории, а не закономерности ее развития. Так, А. Бенуа писал: «... я совершенно переселился в прошлое... За деревьями, бронзами, вазами Версаля я как-то перестал видеть наши улицы, городовых, мясников и хулиганов». В театрализованном мире акмеистов порой не существовало противоречий и проблем.
Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку
И вишен спелых сладостный агат?
………………………………………
Дух мелочей, прелестных и воздушных,
Любви ночей, то нежащих, то душных.
Веселой легкости бездумного житья!
Ах, верен я, далек чудес послушных,
Твоим цветам, веселая земля!
М- Кузмин. «Где слог найду». 1906
В стихах А. Ахматовой, С. Городецкого, Н. Гумилева проскальзывали печальные ноты, тревожные предчувствия, звучал мотив смерти. Противопоставляя себя символистам, акмеисты часто еще дальше уходили от реальной жизни.
Представители акмеизма (как и символизма) были в большинстве своем талантливыми индивидуальностями. Лишь при зарождении этого литературного направления они следовали его эстетическим канонам. Далее творчество каждого из них развивалось в соответствии с особенностями индивидуального дарования и собственным взглядом на жизнь. В поэзии Н.Гумилева, например, еще сохранялись черты символизма. С. Городецкий и А. Ахматова уже в раннем творчестве тяготели к реалистическому стилю творчества. Мир М. Кузмина -- это «милый, хрупкий мир загадок», маскарадности, галантности XVIII века, игры в любовь, описание «прелестных мелочей», наслаждение «бездумным житьем». О. Мандельштам, создавая драматически напряженную философскую лирику, стремился обновить язык поэзии, осознавая грандиозность исторических перемен, шел, по словам исследователя литературы В.Жирмунского, «к поэтике сложных и абстрактных иносказаний». А.Блок назвал исключением творчество А. Ахматовой, которой были близки принципы реалистического письма, продолжавшей традиции русской классической поэзии.
Николай Гумилёв
Николай Степанович Гумилёв родился 3(15) апреля 1886 года в Кронштадте, где его отец, Степан Яковлевич, окончивший гимназию в Рязани и Московский университет по медицинскому факультету, служил корабельным врачом. По некоторым сведениям, семья отца происходила из духовного звания, чему косвенным подтверждением может служить фамилия (от латинского слова humilis, «смиренный»), но дед поэта, Яков Степанович, был помещиком, владельцем небольшого имения Березки в Рязанской губернии, где семья Гумилёвых иногда проводила лето. Б. П. Козьмин, не указывая источника, говорит, что юный Н. С. Гумилёв, увлекавшийся тогда социализмом и читавший Маркса (он был в то время Тифлисским гимназистом -- значит, это было между 1901 и 1903 годами), занимался агитацией среди мельников, и это вызвало осложнения с губернатором Березки были позднее проданы, и на место их куплено небольшое имение под Петербургом.
Мать Гумилёва, Анна Ивановна, урожденная Львова, сестра адмирала Л. И. Львова, была второй женой С. Я. и на двадцать с лишним лет моложе своего мужа. У поэта был старший брат Дмитрий и единокровная сестра Александра, в замужестве Сверчкова. Мать пережила обоих сыновей, но точный год ее смерти не установлен.
Гумилёв был еще ребенком, когда отец его вышел в отставку и семья переселилась в Царское Село. Свое образование Гумилёв начал дома, а потом учился в гимназии Гуревича, но в 1900 году семья переехала в Тифлис, и он поступил в 4-й класс 2-й гимназии, а потом перевелся в 1-ю. Но пребывание в Тифлисе было недолгим. В 1903 году семья вернулась в Царское Село, и поэт поступил в 7-й класс Николаевской Царскосельской гимназии, директором которой в то время был и до 1906 года оставался известный поэт Иннокентий Федорович Анненский. Последнему обычно приписывается большое влияние на поэтическое развитие Гумилёва, который во всяком случае очень высоко ставил Анненского как поэта. По-видимому, писать стихи (и рассказы) Гумилёв начал очень рано, когда ему было всего восемь лет. Первое появление его в печати относится к тому времени, когда семья жила в Тифлисе: 8 сентября 1902 года в газете «Тифлисский Листок» было напечатано его стихотворение «Я в лес бежал из городов…» (стихотворение это не было нами, к сожалению, разыскано).
По всем данным, учился Гумилёв плоховато, особенно по математике, и гимназию кончил поздно, только в 1906 воду. Зато еще за год до окончания гимназии он выпустил свой первый сборник стихов под названием «Путь конквистадоров», с эпиграфом из едва ли многим тогда известного, а впоследствии столь знаменитого французского писателя Андрэ Жида, которого он, очевидно, читал в подлиннике. Об этом первом сборнике юношеских стихов Гумилёва Валерий Брюсов писал в «Весах», что он полон «перепевов и подражаний» и повторяет все основные заповеди декадентства, пора жившие своей смелостью и новизной на Западе лет за двадцать, а в России лет за десять до того (как раз за десять лет до выхода книги Гумилёва сам Брюсов произвел сенсацию, выпустив свои сборнички «Русские символисты»). Все же Брюсов счел нужным добавить: «Но в книге есть и несколько прекрасных стихов, действительно удачных образов. Предположим, что она только путь нового конквистадора и что его победы и завоевания впереди». Сам Гумилёв никогда больше не переиздавал «Путь конквистадоров» и, смотря на эту книгу, очевидно, как на грех молодости, при счете своих сборников стихов опускал ее (поэтому «Чужое небо» он назвал в 1912 году третьей книгой стихов, тогда как на самом деле она была четвертой).
Из биографических данных о Гумилёве неясно, что он делал сразу по окончании гимназии. А. А. Гумилёва, упомянув, что ее муж, окончив гимназию, по желанию отца поступил в Морской Корпус и был одно лето в плавании, прибавляет: «А поэт по настоянию отца должен был поступить в университет», и дальше говорит, что он решил уехать в Париж и учиться в Сорбонне. Согласно словарю Козьмина, Гумилёв поступил в Петербургский университет уже гораздо позднее, в 1912 году, занимался старо-французской литературой на романо-германском отделении, но курса не кончил. В Париж же он действительно уехал и провел заграницей 1907-1908 годы, слушая в Сорбонне лекции по французской литературе. Если принять во внимание этот факт, поражает как он в 1917 году, когда снова попал во Францию, плохо писал по-французски, и с точки зрения грамматики, и даже с точки зрения правописания (впрочем, С. К. Маковский говорит, что он и в русском правописании, а особенно пунктуации, был далеко не тверд): о его плохом знании французского языка свидетельствует хранящийся в моем архиве собственноручный меморандум Гумилёва о наборе добровольцев в Абиссинии для армии союзников, а также его собственные переводы его стихов на французский язык.
В Париже Гумилёв вздумал издавать небольшой литературный журнал под названием «Сириус», в котором печатал собственные стихи и рассказы под псевдонимами «Анатолий Грант» и «К-о», а также и первые стихи Анны Андреевны Горенко, ставшей вскоре его женой и прославившейся под именем Анны Ахматовой -- они были знакомы еще по Царскому Селу. В одной из памяток о Гумилёве, написанной вскоре после его смерти, цитируется письмо Ахматовой к неизвестному лицу, написанное из Киева и датированное 13 марта 1907 года, где она писала: «Зачем Гумилёв взялся за „Сириус“? Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастиев наш Микола перенес и все понапрасну! Вы заметили, что сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я? Я думаю что нашло на Гумилёва затмение от Господа. Бывает».3 К сожалению, даже в Париже оказалось невозможно найти комплект «Сириуса» (всего вышло три тоненьких номера журнала), и из напечатанного там Гумилёвым мы имеем возможность дать в настоящем издании лишь одно стихотворение и часть одной «поэмы в прозе». Были ли в журнале какие-нибудь другие сотрудники кроме Ахматовой и скрывавшегося под разными псевдонимами Гумилёва, остается неясным.
В Париже же в 1908 году Гумилёв выпустил свою вторую книгу стихов -- «Романтические цветы». Из Парижа он еще в 1907 году совершил свое первое путешествие в Африку. По-видимому, путешествие это было предпринято наперекор воле отца, по крайней мере вот как пишет об этом А. А. Гумилёва:
Об этой своей мечте [поехать в Африку]… поэт написал отцу, но отец категорически заявил, что ни денег, ни его благословения на такое (по тем временам) «экстравагантное путешествие» он не получит до окончания университета. Тем не менее Коля, не взирая ни на что, в 1907 году пустился в путь, сэкономив необходимые средства из ежемесячной родительской получки. Впоследствии поэт с восторгом рассказывал обо всем виденном: -- как он ночевал в трюме парохода вместе с пилигримами, как разделял с ними их скудную трапезу, как был арестован в Трувилле за попытку пробраться на пароход и проехать «зайцем». От родителей это путешествие скрывалось, и они узнали о нем лишь пост-фактум. Поэт заранее написал письма родителям, и его друзья аккуратно каждые десять дней отправляли их из Парижа.
В этом рассказе, может быть, и не все точно: например, остается непонятным, почему по дороге в Африку Гумилёв попал в Трувилль (в Нормандии) и был там арестован -- возможно, что тут перепутаны два разных эпизода -- но мы все же приводим рассказ А. А. Гумилёвой, так как об этой первой поездке поэта в Африку других воспоминаний как будто не сохранилось.
В 1908 году Гумилёв вернулся в Россию. Теперь у него уже было некоторое литературное имя. О вышедших в Париже «Романтических цветах» написал опять в «Весах» (1908,? 3, стр. 77-78) Брюсов. В этой книге он увидел большой шаг вперед по сравнению с «Путем». Он писал:
…видишь, что автор много и упорно работал над своим стихом. Не осталось и следов прежней небрежности размеров, неряшливости рифм, неточности образов. Стихи Н. Гумилёва теперь красивы, изящны, и большей частью интере сн ы по форме; теперь он резко и определенно вычерчивает свои образы и с большой продуманностью и изысканностью выбирает эпитеты. Часто рука ему еще изменяет, [но?] он -- серьезный работник, который понимает, чего хочет, и умеет достигать, чего добивается.
Брюсов правильно отмечал, что Гумилёву больше удается лирика «объективная», где сам поэт исчезает за нарисованными Им образами, где больше дано глазу, чем слуху. В стихах же, где надо передать внутренние переживания музыкой стиха и очарованием слов, Н. Гумилёву часто не достает силы непосредственного внушения. Он немного парнасец в своей поэзии, поэт типа Леконта де Лиля…
Свою рецензию Брюсов заканчивал так:
Конечно, несмотря на отдельные удачные пьесы, и «Романтические цветы» -- только ученическая книга. Но хочется верить, что Н. Гумилёв принадлежит к числу писателей, развивающихся медленно, и по тому самому встающих высоко. Может быть, продолжая работать с той упорностью, как теперь, он сумеет пойти много дальше, чем мы то наметили, откроет в себе возможности, нами не подозреваемые.
В этом своем предположении Брюсов оказался как нельзя более прав. Так как Брюсов считался критиком строгим и требовательным, такая рецензия должна была окрылить Гумилёва. Немного позлее, рецензируя в «Весах» (1909, ?7) один журнал, в котором были напечатаны стихи Гумилёва, вошедшие потом в «Жемчуга», Сергей Соловьев говорил, что иногда у Гумилёва «попадаются литые строфы, выдающие школу Брюсова», и тоже писал о влиянии на него Леконта де Лиля.
В период между 1908 и 1910 гг. Гумилёв завязывает литературные знакомства и входит в литературную жизнь столицы. Живя в Царском Селе, он много общается с И. Ф. Анненским. В 1909 году знакомится с С. К. Маковским и знакомит последнего с Анненским, который на короткое время становится одним из столпов основываемого Маковским журнала «Аполлон». Журнал начал выходить в октябре 1909 года, а 30 ноября того же года Анненский внезапно умер от разрыва сердца на Царскосельском вокзале в Петербурге. Сам Гумилёв с самого же начала стал одним из главных помощников Маковского по журналу, деятельнейшим его сотрудником и присяжным поэтическим критиком. Из года в год он печатал в «Аполлоне» свои «Письма о русской поэзии». Лишь иногда его в этой роли сменяли другие, например Вячеслав Иванов и М. А. Кузмин, а в годы войны, когда он был на фронте -- Георгий Иванов.
Весной 1910 года умер отец Гумилёва, давно уже тяжело болевший. А несколько позже в том же году, 25-го апреля, Гумилёв женился на Анне Андреевне Горенко. После свадьбы молодые уехали в Париж. Осенью того же года Гумилёв предпринял новое путешествие в Африку, побывав на этот раз в самых малодоступных местах Абиссинии. В 1910 же году вышла третья книга стихов Гумилёва, доставившая ему широкую известность -- «Жемчуга». Книгу эту Гумилёв посвятил Брюсову, назвав его своим учителем. В рецензии, напечатанной в «Русской Мысли» (1910, кн. 7), сам Брюсов писал по поводу «Жемчугов», что поэзия Гумилёва живет в мире воображаемом и почти призрачном. Он как-то чуждается современности, он сам создает для себя страны и населяет их им самим сотворенными существами: людьми, зверями, демонами. В этих странах -- можно сказать, в этих мирах, -- явления подчиняются не обычным законам природы, но новым, которым повелел существовать поэт; и люди в них живут и действуют не по законам обычной психологии, но по странным, необъяснимым капризам, подсказываемым автором суфлером.
Говоря о включенных Гумилёвым в книгу стихах из «Романтических цветов», Брюсов отмечал, что там фантастика еще свободней, образы еще призрачней, психология еще причудливее. Но это не значит, что юношеские стихи автора полнее выражают его душу. Напротив, надо отметить, что в своих новых поэмах он в значительной степени освободился от крайностей своих первых созданий и научился замыкать свои мечты в более определенные очертания. Его видения с годами приобрели больше пластичности, выпуклости. Вместе с тем явно окреп и его стих. Ученик И. Анненского, Вячеслава Иванова и того поэта, которому посвящены «Жемчуга» [т. е. самого Брюсова], Н. Гумилёв медленно, но уверенно идет к полному мастерству в области формы. Почти все его стихотворения написаны прекрасно, обдуманным и утонченно звучащим стихом. Н. Гумилёв не создал никакой новой манеры письма, но, заимствовав приемы стихотворной техники у своих предшественников, он сумел их усовершенствовать, развить, углубить, что, быть может, надо признать даже большей заслугой, чем искание новых форм, слишком часто ведущее к плачевным неудачам.
Вячеслав Иванов тогда же в «Аполлоне» (1910, ?7) писал о Гумилёве по поводу «Жемчугов», как об ученике Брюсова, говорил о его «замкнутых строфах» и «надменных станцах», о его экзотическом романтизме. В поэзии Гумилёва он видел еще только «возможности» и «намеки», но ему уже тогда казалось, что Гумилёв может развиться в другую сторону, чем его «наставник» и «Вергилий»: такие стихотворения как «Путешествие в Китай» или «Маркиз де Карабас» («бесподобная идиллия») показывают, писал Иванов, что «Гумилёв подчас хмелеет мечтой веселее и беспечнее, чем Брюсов, трезвый в самом упоении». Свой длинный и интересный отзыв Иванов заканчивал следующим прогнозом:
…когда действительный, страданием и любовью купленный опыт души разорвет завесы, еще обволакивающие перед взором поэта сущую реальность мира, тогда разделятся в нем «суша и вода», Тогда его лирический эпос станет объективным эпосом, и чистою лирикой -- его скрытый лиризм, -- тогда впервые будет он принадлежать жизни.
К 1910-1912 гг. относятся воспоминания о Гумилёве г-жи В. Неведомской. Она и ее молодой муж были владельцами имения Подобино, старого дворянского гнезда в шести верстах от гораздо более скромного Слепнева, где Гумилёв и его жена проводили лето после возвращения из свадебного путешествия.В это лето Неведомские познакомились с ними и встречались чуть не ежедневно. Неведомская вспоминает о том, как изобретателен был Гумилёв в выдумывании разных игр. Пользуясь довольно большой конюшней Неведомских, он придумал игру в «цирк».
Николай Степанович ездить верхом, собственно говоря, не умел, но у него было полное отсутствие страха. Он садился на любую лошадь, становился на седло и проделывал самые головоломные упражнения. Высота барьера его никогда не останавливала, и он не раз падал вместе с лошадью.
В цирковую программу входили также танцы на канате, хождение колесом и т. д. Ахматова выступала как «женщина-змея»: гибкость у нее была удивительная -- она легко закладывала ногу за шею, касалась затылком пяток, сохраняя при всем этом строгое лицо послушницы. Сам Гумилёв, как директор цирка, выступал в прадедушкином фраке и цилиндре, извлеченных из сундука на чердаке. Помню, раз мы заехали кавалькадой человека десять в соседний уезд, где нас не знали. Дело было в Петровки, в сенокос. Крестьяне обступили нас и стали расспрашивать -- кто мы такие? Гумилёв, не задумываясь, ответил, что мы бродячий цирк и едем на ярмарку в соседний уездный город давать представление. Крестьяне попросили нас показать наше искусство, и мы проделали перед ними всю нашу «программу». Публика пришла в восторг, и кто-то начал собирать медяки в нашу пользу. Тут мы смутились и поспешно исчезли.
Неведомская рассказывает также о придуманной Гумилёвым игре в «типы», в которой каждый из играющих изображал какой-нибудь определенный образ или тип, например «Дон Кихота» или «Сплетника», или «Великую Интриганку», или «Человека, говорящего всем правду в глаза», причем Должен был проводить свою роль в повседневной жизни. При этом назначенные роли могли вовсе не соответствовать и даже противоречить настоящему характеру данного «актера». В результате иногда возникали острые положения. Старшее поколение относилось критически к этой игре, молодых же «увлекала именно известная рискованность игры». По этому поводу г-жа Неведомская говорит, что в характере Гумилёва «была черта, заставлявшая его искать и создавать рискованные положения, хотя бы лишь психологически», хотя было у него влечение и к опасности чисто физической.
Вспоминая осень 1911 года, г-жа Неведомская рассказывает о пьесе, которую сочинил Гумилёв для исполнения обитателями Подобина, когда упорные дожди загнали их в дом.5 Гумилёв был не только автором, но и режиссером. Г-жа Неведомская пишет:
Его воодушевление и причудливая фантазия подчиняли нас полностью и мы покорно воспроизводили те образы, которые он нам внушал. Все фигуры этой пьесы схематичны, как и образы стихов и поэм Гумилёва. Ведь и живых людей, с которыми он сталкивался, Н. С. схематизировал и заострял, применяясь к типу собеседника, к его «коньку», ведя разговор так, что человек становился рельефным; при этом «стилизуемый объект» даже не замечал, что Н. С. его все время «стилизует».
В 1911 году у Гумилёвых родился сын Лев. К этому же году относится рождение Цеха Поэтов, -- литературной организации, первоначально объединявшей очень разнообразных поэтов (в нее входили и Блоки Вячеслав Иванов), но вскоре давшей толчок к возникновению акмеизма, который, как литературное течение, противопоставил себя символизму. Здесь не место говорить об этом подробно. Напомним только, что к 1910 году относится знаменитый спор о символизме. В созданном при «Аполлоне» Обществе Ревнителей Художественного Слова были прочитаны доклады о символизме Вячеслава Иванова и Александра Блока. Оба эти доклады были напечатаны в? 8 «Аполлона» (1910 г.). А в следующем номере появился короткий и язвительный ответ на них В. Я. Брюсова, озаглавленный «О речи рабской, в защиту поэзии». Внутри символизма наметился кризис, и два с лишним года спустя на страницах того нее «Аполлона» (1913, 1) Гумилёв и Сергей Городецкий в статьях носивших характер литературных манифестов провозгласили идущий на смену символизму акмеизм или адамизм. Гумилёв стал признанным вождем акмеизма (который одновременно противопоставил себя и народившемуся незадолго до того футуризму), а «Аполлон» его органом. Цех Поэтов превратился в организацию поэтов-акмеистов, и при нем возник небольшой журнальчик «Гиперборей», выходивший в 1912-1913 гг., и издательство того же имени.
Провозглашенный Гумилёвым акмеизм в его собственном творчестве всего полнее и отчетливее выразился в вышедшей именно в это время (1912 г.) сборнике «Чужое небо», куда Гумилёв включил и четыре стихотворения Теофиля Готье, одного из четырех поэтов -- весьма друг на друга непохожих -- которых акмеисты провозгласили своими образцами. Одно из четырех стихотворений Готье, вошедших в «Чужое небо» («Искусство»), может рассматриваться как своего рода кредо акмеизма. Через два года После этого Гумилёв выпустил целый том переводов из Готье -- «Эмали и камеи» (1914 г.). Хотя С. К. Маковский в своем этюде о Гумилёве и говорит, что недостаточное знакомство с французским языком иногда и подводило Гумилёва в этих переводах, другой знаток французской литературы, сам ставший французским эссеистом и критиком, покойный А. Я. Левинсон, писал в некрологе Гумилёва:
Мне доныне кажется лучшим памятником этой поры в жизни Гумилёва бесценный перевод «Эмалей и камей», поистине чудо перевоплощения в облик любимого им Готье. Нельзя представить, при коренной разнице в стихосложении французском и русском, в естественном ритме и артикуляции обоих языков, более разительного впечатления тождественности обоих текстов. И не подумайте, что столь полной аналогии возможно достигнуть лишь обдуманностью и совершенством фактуры, выработанностью ремесла; тут нужно постижение более глубокое, поэтическое братство с иностранным стихотворцам.6
В эти годы, предшествовавшие мировой войне, Гумилёв жил интенсивной жизнью: «Аполлон», Цех Поэтов, «Гиперборей», литературные встречи на башне у Вячеслава Иванова, ночные сборища в «Бродячей Собаке», о которых хорошо сказала в своих стихах Анна Ахматова и рассказал в «Петербургских зимах» Георгий Иванов. Но и не только это, а и поездка в Италию в 1912 году, плодом которой явился ряд стихотворений, первоначально напечатанных в «Русской Мысли» П. Б. Струве (постоянными сотрудниками которой в эти годы стали и Гумилёв и Ахматова) и в других журналах, а потом вошедших большей частью в книгу «Колчан»; и новое путешествие в 1913 году в Африку, на этот раз обставленное как научная экспедиция, с поручением от Академии Наук (в этом путешествии Гумилёва сопровождал его семнадцатилетний племянник, Николай Леонидович Сверчков). Об этом путешествии в Африку (а может быть отчасти и о прежних) Гумилёв писал в напечатанных впервые в «Аполлоне» «Пятистопных ямбах»:
Но проходили месяцы, обратно
Я плыл и увозил клыки слонов,
Картины абиссинских мастеров,
Меха пантер -- мне нравились их пятна --
И то, что прежде было непонятно,
Презренье к миру и усталость снов.
О своих охотничьих подвигах в Африке Гумилёв рассказал в очерке, который будет включен в последний том нашего Собрания сочинений, вместе с другой прозой Гумилёва.
«Пятистопные ямбы» -- одно из самых личных и автобиографических стихотворений Гумилёва, который до того поражал своей "объективностью, своей «безличностью» в стихах. Полные горечи строки в этих «Ямбах» явно обращены к А. А. Ахматовой и обнаруживают наметившуюся к этому времени в их отношениях глубокую и неисправимую трещину:
Я знаю, жизнь не удалась… и ты,
Ты, для кого искал я на Леванте
Нетленный пурпур королевских мантий,
Я проиграл тебя, как Дамаянти
Когда-то проиграл безумный Наль.
Взлетели кости, звонкие как сталь,
Упали кости -- и была печаль.
Сказала ты, задумчивая, строго:
-- «Я верила, любила слишком много,
А ухожу, не веря, не любя,
И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя». --
Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук.
Я сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и мучил каждый звук.
И ты ушла в простом и темном платье,
Похожая на древнее Распятье.
Об этой личной драме Гумилёва не пришло еще время говорить иначе как словами его собственных стихов: мы не знаем всех ее перипетий, и еще жива А. А. Ахматова, не сказавшая о ней в печати ничего.
Из отдельных событий в жизни Гумилёва в этот предвоенный период -- период, о котором много вспоминали его литературные друзья -- можно упомянуть его дуэль с Максимилианом Волошиным, связанную с выдуманной Волошиным «Черубиной де Габриак» и ее стихами. Об этой дуэли -- вызов произошел в студии художника А. Я. Головина при большом скоплении гостей -- рассказал довольно подробно С. К. Маковский (см. его книгу «На Парнасе Серебряного Века»), а мне о ней рассказывал также бывший свидетелем вызова Б. В. Анреп.
Всему этому был положен конец в июле 1914 года, когда в далеком Сараеве раздался выстрел Гавриила. Принципа, а затем всю Европу охватил пожар войны, и с него началась та трагическая эпоха, которую мы переживаем по ею пору. Об этом июле Ахматова писала:
Пахнет гарью. Четыре недели
Торф сухой по болотам горит.
Даже птицы сегодня не пели,
И осина уже не дрожит.
Стало солнце немилостью Божьей,
Дождик с Пасхи полей не кропил.
Приходил одноногий прохожий
И один на дворе говорил:
«Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил.
Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:
Богородица белый расстелит
Над скорбями великими плат».
Патриотический порыв тогда охватил все русское общество. Но едва ли не единственный среди сколько-нибудь видных русских писателей, Гумилёв отозвался на обрушившуюся на страну войну действенно, и почти тотчас же (24-го августа) записался в добровольцы. Он сам, в позднейшей версии уже упоминавшихся «Пятистопных ямбов», сказал об этом всего лучше:
И в реве человеческой толпы,
В гуденьи проезжающих орудий,
В немолчном зове боевой трубы
Я вдруг услышал песнь моей судьбы
И побежал, куда бежали люди,
Покорно повторяя: буди, буди.
Солдаты громко пели, и слова
Невнятны были, сердце их ловило:
-- «Скорей вперед! Могила так могила!
Нам ложем будет свежая трава,
А пологом -- зеленая листва,
Союзником -- архангельская сила». --
Так сладко эта песнь лилась, маня,
Что я пошел, и приняли меня
И дали мне винтовку и коня,
И поле, полное врагов могучих,
Гудящих грозно бомб и пуль певучих,
И небо в молнийных и рдяных тучах.
И счастием душа обожжена
С тех самых пор; веселием полна
И ясностью, и мудростью, о Боге
Со звездами беседует она,
Глас Бога слышит в воинской тревоге
И Божьими зовет свои дороги.
В нескольких стихотворениях Гумилёва о войне, вошедших в сборник «Колчан» (1916) -- едва ли не лучших во всей «военной» поэзии в русской литературе сказалось не только романтически-патриотическое, но и глубоко религиозное восприятие Гумилёвым войны. Говоря в своем уже цитированном некрологе Гумилёва об его отношении к войне, А. Я. Левинсон писал: Войну он принял с простотою совершенной, с прямолинейной горячностью. Он был, пожалуй, одним из тех немногих людей в России, чью душу война застала в наибольшей боевой готовности. Патриотизм его был столь же безоговорочен, как безоблачно было его религиозное исповедание. Я не видел человека, природе которого было бы более чуждо сомнение, как совершенно, редкостно чужд был ему и юмор. Ум его, догматический и упрямый, не ведал никакой двойственности.
Н. А. Оцуп в своем предисловии к «Избранному» Гумилёва (Париж, 1959) отметил близость военных стихов Гумилёва к стихам французского католического поэта Шарля Пеги, который так же религиозно воспринял войну и был убит на фронте в 1914 году.
В приложении к настоящему очерку читатель найдет «Послужной описок» Гумилёва. В нем в голых фактах и казенных формулах запечатлены военная страда и героический подвиг Гумилёва. Два солдатских Георгия на протяжении первых пятнадцати месяцев войны сами говорят за себя. Сам Гумилёв, поэтически воссоздавая и переживая заново свою жизнь в замечательном стихотворении «Память» (которое читатель найдет во втором томе нашего собрания) так сказал об этом:
Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь.
В годы войны Гумилёв выбыл из литературной среды и жизни и перестал писать «Письма о русской поэзии» для «Аполлона» (зато в утреннем издании газеты «Биржевые Ведомости» одно время печатались его «Записки кавалериста»). Из его послужного списка вытекает, что до 1916 года он ни разу не был даже в отпуску. Но в 1916 году он провел в Петербурге несколько месяцев, будучи откомандирован для держания офицерского экзамена при Николаевском кавалерийском училище. Экзамена этого Гумилёв почему-то не выдержал и производства в следующий после прапорщика чин так и не получил.
Как отнесся Гумилёв к февральской революции, мы не знаем. Может быть, с начавшимся развалом в армии было связано то, что он «отпросился» на фронт к союзникам и в мае 1917 года через Финляндию, Швецию и Норвегию уехал на Запад. Повидимому, предполагалось, что он проследует на Салоникский фронт и будет причислен к экспедиционному корпусу генерала Франше д-Эспере, но он застрял в Париже. По дороге в Париж Гумилёв пробыл некоторое время в Лондоне, где Б. В. Анреп, его петербургский знакомец и сотрудник «Аполлона», познакомил его с литературными кругами. Так, он возил его к лэди Оттолине Моррелл, которая жила в деревне и в доме которой часто собирались известные писатели, в том числе Д. X. Лоуренс и Олдос Хаксли. В сохранившихся в лондонском архиве Гумилёва записных книжках записан ряд литературных адресов, а также много названий книг -- по английской и другим литературам -- которые Гумилёв собирался читать или приобрести. Записи эти отражают интерес Гумилёва к восточным литературам, и возможно, что либо в это первое пребывание в Лондоне, либо в более длительное на обратном пути (между январем и апрелем 1918 года) он познакомился с известным английским переводчиком китайской поэзии, Артуром Уэли (Waley), служившим в Британском Музее. Переводами китайских поэтов Гумилёв занялся в Париже. О жизни Гумилёва в Париже, продолжавшейся шесть месяцев (с июля 1917 по январь 1918 года) мы знаем довольно мало. По словам известного художника М. Ф. Ларионова (в частном письме ко мне) самой большой страстью Гумилёва в этот его парижский период была восточная поэзия, и он собирал все до нее касающееся. С Ларионовым и его женой, Н. С. Гончаровой, жившими в то время в Париже, Гумилёв много общался, и принадлежащий мне сейчас лондонский альбом стихов Гумилёва иллюстрирован их рисунками в красках (есть в нем и один рисунок Д. С. Стеллецкого). Вспоминая о пребывании Гумилёва в Париже, М. Ф. Ларионов писал мне:
«Вообще он был непоседой. Париж знал хорошо и отличался удивительным умением ориентироваться. Половина наших разговоров проходила об Анненском и Жерар де Нервале. Имел странность в Тюильри садиться на бронзового льва, который одиноко скрыт в зелени в конце сада, почти у Лувра».
Из других русских знакомств Гумилёва известно об его встречах с давно уже жившим заграницей поэтом К. Н. Льдовым (Розенблюмом), письмо которого к Гумилёву из Парижа в Лондон с вложенными в него стихами сохранилось среди бумаг, переданных мне Б. В. Анрепом.8
Но хотя Ларионов говорит о восточной литературе, как главной страсти Гумилёва в Париже, мы знаем и о другой его парижской страсти -- о любви его к молодой Елене Д., полурусской, полу-француженке, вышедшей потом замуж за американца. Об этой «любви несчастной Гумилёва в год четвертый мировой войны», как он сам охарактеризовал ее, говорит целый цикл его стихов, записанных в альбом Елены Д., которую он называл своей «синей звездой», и напечатанных по тексту этого альбома -- уже после его смерти -- в сборнике «К синей звезде» (1923 Многие из этих стихотворений были записаны Гумилёвым и в его лондонский альбом, иногда в новых вариантах.
Короткий заграничный период оказался творчески продуктивным в жизни Гумилёва. Помимо стихов «к. синей звезде» и переводов восточных поэтов, составивших книгу «Фарфоровый павильон», Гумилёв задумал и начал писать в Париже и продолжал в Лондоне свою «византийскую» трагедию «Отравленная туника». К этому же времени относится интересная неоконченная повесть «Веселые братья», хотя возможно, что работу над ней Гумилёв начал еще в России. Может показаться странным, что в то время как и Швеция, и Норвегия, и Северное море, которые он видел проездом, навеяли ему стихотворения (эти стихотворения вошли в книгу «Костер», 1918), ни Париж ни Лондон, где он пробыл довольно долго, сами по себе не оставили следов в его поэзии, если не считать упоминаний парижских улиц в любовных стихах альбома «К синей звезде».
О военной службе Гумилёва за это время, о том, в чем заключались его обязанности как офицера, известно очень мало. Я уже упоминал составленный Гумилёвым меморандум о наборе добровольцев среди абиссинцев в армию союзников. Был ли представлен этот меморандум по назначению, то есть французскому верхов ному командованию или военному министерству, мы не знаем. Может быть, разыскания во французских военных архивах дадут ответ на этот вопрос. Гумилёв во всяком случае считал себя специалистом по Абиссинии. Хотя Георгий Иванов, хорошо знавший Гумилёва, в своих воспоминаниях о нем и говорит, что он отзывался об Африке презрительно и раз в ответ на вопрос, что испытал он, увидев впервые Сахару, ответил: «Я не заметил ее. Я сидел на верблюде и читал Ронсара», -- этот ответ следует считать, пожалуй, рисовкой. Заметил Гумилёв Сахару или не заметил, он воспел ее в длинном стихотворении и даже предсказал время, когда
… на мир наш зеленый и старый
Дико ринутся хищные стаи песков
Из пылающей юной Сахары.
Средиземное Море засыпят они,
И Париж, и Москву, и Афины,
И мы будем в небесные верить огни,
На верблюдах своих бедуины.
И когда наконец корабли марсиан
У земного окажутся шара,
То увидят сплошной, золотой океан
И дадут ему имя: Сахара.
Стихи Гумилёва об Африке (в книге «Шатер») говорят о том колдовском очаровании, которое имел для него этот материк -- он называл его «исполинской грушей», висящей «на дереве древнем Евразии». Об Африке Гумилёв вспоминал и в Париже в дни своего вынужденного бездействия там в 1917 году. Свою любовь к ней и свое знакомство с ней он решил использовать в интересах союзного дела. Отсюда -- его записка об Абиссинии, в которой он сообщает данные о различных населяющих ее племенах и характеризуют их с точки зрения их военного потенциала. Эту записку читатель найдет в приложении к одному из последующих томов нашего собрания.
В приложении к настоящему очерку даются никогда ранее не печатавшиеся документы, проливающие некоторый свет на обстоятельства, при которых Гумилёв в январе 1918 года покинул Париж и перебрался в Лондон. У него было, невидимому, серьезное намерение отправиться на месопотамский фронт и сражаться в английской армии. В Лондоне он запасся у некоего Арунделя дель Ре, который позднее был преподавателем итальянского языка в Оксфордском университете (я встречался с ним в бытность мою студентом там, но, к сожалению, и понятия не имел о том, что он знавал Гумилёва), письмами к итальянским писателям и журналистам (в том числе к знаменитому Джованни Папини) -- на случай, если ему придется по пути задержаться в Италии: письма эти сохранились в записных книжках в моем архиве. Возможно, что к отправке Гумилёва на Ближний Восток встретились какие-то препятствия с английской стороны вследствие того, что к тому времени Россия выбыла из войны. При отъезде из Парижа Гумилёв был обеспечен жалованьем по апрель 1918 года, а также средствами на возвращение в Россию. Думал ли он серьезно о том, чтобы остаться в Англии, мы не знаем. Едва ли, хотя в феврале 1918 года он, по-видимому, сделал попытку приискать себе работу в Лондоне (см. об этом в документах, приложенных к настоящему очерку, II, 8). Из этой попытки, очевидно, ничего не вышло. Гумилёв покинул Лондон в апреле 1918 года: среди его лондонских бумаг сохранился датированный 10 апреля счет за комнату, которую он занимал в скромной гостинице неподалеку от Британского Музея и теперешнего здания Лондонского университета, на Guilford Street Вернуться тогда в Россию можно было лишь кружным путем -- через Мурманск:. В мае 1918 года Гумилёв уже был в революционном Петрограде.
В том же году состоялся его развод с А. А. Ахматовой, а в следующем году он женился на Анне Николаевне Энгельгардт, дочери профессора-ориенталиста, которую С. К. Маковский охарактеризовал, как «хорошенькую, но умственно незначительную девушку». В 1920 году у Гумилёвых, по словам А. А. Гумилёвой, родилась дочь Елена. О ее судьбе, как и о судьбе ее матери, мне никогда не приходилось встречать никаких упоминаний. Что касается сына А. А. Ахматовой, то он в тридцатых годах стяжал себе репутацию талантливого молодого историка, причем специальностью своей он как будто выбрал историю Средней Азии. Позднее, при обстоятельствах до сих пор до конца не выясненных, он был арестован и сослан. Совсем недавно в журнале «Новый Мир» (1961, ? 12) среди напечатанных там писем покойного А. А. Фадеева было напечатано и его обращение в советскую Главную военную прокуратуру, помеченное 2 марта 1956 года, то есть за два месяца до самоубийства Фадеева. Фадеев направлял:в прокуратуру письмо А. А. Ахматовой и просил «ускорить рассмотрение дела» ее сына, указывая, что «в справедливости его изоляции сомневаются известные круги научной и писательской интеллигенции». Свое обращение Фадеев заканчивал следующими словами:
При разбирательстве дела Л. Н. Гумилёва необходимо также учесть, что (несмотря на то, что ему было всего 9 лет, когда его отца Н. Гумилёва уже не стало) он, Лев Гумилёв, как сын Н. Гумилёва и А. Ахматовой всегда мог представить «удобный» материал для всех карьеристских и враждебных элементов для возведения на него любых обвинений.
Думаю, что есть полная возможность разобраться в его деле объективно.
Хотя к другим тут же напечатанным письмам неким С. Преображенским даны пояснительные комментарии, это в известном смысле беспримерное обращение Фадеева, которое он подписал своим званием депутата Верховного Совета СССР, оставлено без всякого пояснения. Известно, однако, что вскоре после этого Л. Н. Гумилёв был освобожден из «изоляции» (как деликатно выразился Фадеев) и стал работать в азиатском отделе Эрмитажа. В 1960 году Институтом Востоковедения при Академии Наук СССР был выпущен солидный труд Л. Н. Гумилёва по истории ранних гуннов («Хунну: Средняя Азия в древние времена»). Но в 1961 г. заграницу дошли слухи (может быть, и неверные) о новом аресте Л. Н. Гумилёва.
Вернувшись в Советскую Россию, Н. С. Гумилёв окунулся в тогдашнюю горячечную литературную атмосферу революционного Петрограда. Как многие другие писатели, он стал вести занятия и читать лекции в Институте Истории Искусств и в разных возникших тогда студиях -- в «Живом Слове», в студии Балтфлота, в Пролеткульте. Он принял также близкое участие в редакционной коллегии издательства «Всемирная Литература», основанного по почину М. Горького, и вместе с А. А. Блоком и М. Л. Лозинским стал одним из редакторов поэтической серии. Под его редакцией в 1919 году и позже были выпущены «Поэма о старом моряке» С. Кольриджа в его, Гумилёва, переводе, «Баллады» Роберта Саути (предисловие и часть переводов принадлежали Гумилёву) и «Баллады о Робин Гуде» (часть переводов тоже принадлежала Гумилёву; предисловие было написано Горьким). В переводе Гумилёва с его же коротким предисловием и введением ассириолога В. К. Шилейко, который стал вторым мужем А. А. Ахматовой, был выпущен также вавилонский эпос о Гильгамеше. Вместе с Ф. Д. Батюшковым и К. И. Чуковским Гумилёв составил книгу о принципах художественного перевода. В 1918 году, вскоре после возвращения в Россию, он задумал переиздать некоторые из своих дореволюционных сборников стихов: появились новые, пересмотренные издания «Романтических цветов» и «Жемчугов»; были объявлены, но не вышли «Чужое небо» и «Колчан». В том же году вышел шестой сборник стихов Гумилёва «Костер», содержавший стихи 1916-1917 гг., а также африканская поэма «Мик» и уже упоминавшийся «Фарфоровый павильон». Годы 1919 и 1920 были годами, когда издательская деятельность почти полностью приостановилась, а в 1921 году вышли два последних прижизненных сборника стихов Гумилёва -- «Шатер» (стихи об Африке) и «Огненный столп».
Кроме того Гумилёв активно участвовал и в литературной политике. Вместе с Н. Оцупом, Г. Ивановым и Г. Адамовичем он возродил Цех Поэтов, который должен был быть «беспартийным», не чисто акмеистским, но ряд поэтов отказался в него войти, а Ходасевич кончил тем, что ушел. Уход Ходасевича был отчасти связан с тем, что в петербургском отделении Всероссийского Союза Поэтов произошел переворот и на место Блока председателем был выбран Гумилёв. В связи с этим много и весьма противоречиво писалось о враждебных отношениях между Гумилёвым и Блоком в эти последние два года жизни обоих, но эта страница литературной истории до сих пор остается до конца не раскрытой, и касаться этого вопроса здесь не место.
Гумилёв с самого начала не скрывал своего отрицательного отношения к большевицкому режиму. А. Я. Левинсон, встречавшийся с ним во «Всемирной Литературе», где их на два с лишком года объединил «общий. труд насаждения духовной культуры Запада на развалинах русской жизни», так вспоминал об этом времени в 1922 году:
Кто испытал «культурную» работу в Совдепии, знает всю горечь бесполезных усилий, всю обреченность борьбы с звериной враждой хозяев жизни, но все же этой великодушной иллюзией мы жили в эти годы, уповая, что Байрон и Флобер, проникающие в массы хотя бы во славу большевицкого «блеффа», плодотворно потрясут не одну душу. Я смог оценить тогда обширность знаний Гумилёва в области европейской поэзии, необыкновенную напряженность и добротность его работы, а особенно его педагогический дар. «Студия Всемирной Литературы» была его главной кафедрой; здесь отчеканивал он правила своей поэтики, которой охотно придавал форму «заповедей»… В общественном нашем быту, ограниченном заседаниями редакции, он с чрезвычайной резкостью и бесстрашием отстаивал достоинство писателя. Мечтал даже во имя попранных наших прерогатив и неотъемлемых прав духа апеллировать ко всем писателям Запада; ждал оттуда спасения и защиты.
О политике он почти не говорил: раз навсегда с негодованием и брезгливостью отвергнутый режим как бы не существовал для него. (Разрядка моя. -- Г. С.).
Едва ли правильно думать, как утверждали многие, что дело было в «наивном» и несколько старомодном, традиционном монархизме Гумилёва. Отрицательное отношение к новому режиму было общим тогда для значительной части русского интеллигентного общества, и оно особенно усилилось после репрессий, последовавших за покушением на Ленина и убийством Урицкого, совершенным поэтом Леонидом Каннегиссером. Но многими тогда овладел и страх. Гумилёва от многих отличали его мужество, его неустрашимость, его влечение к риску и тяга к действенности. Так же как неверно, думается, изображать Гумилёва как наивного (или наивничающего) монархиста, так же неправильно думать, что в так называемый заговор Таганцева он оказался замешанным более или менее случайно. Нет оснований думать, что Гумилёв вернулся весной 1918 года в Россию с сознательным намерением вложиться в контрреволюционную борьбу, но есть все основания полагать, что, будь он в России в конце 1917 года, он оказался бы в рядах Белого Движения. Точной роди Гумилёва в Таганцевском деле мы не знаем, и о самом этом деле известно еще далеко недостаточно. Но мы знаем, что с одним из руководителей «заговора», профессором -- государствоведом Н. И. Лазаревским, Гумилёв был знаком еще до отъезда из России в 1917 году.
Гумилёв был арестован 3-го августа 1921 года, за четыре дня до смерти А. А. Блока. И В. Ф. Ходасевич, и Г. В. Иванов в своих воспоминаниях говорят, что в гибели Гумилёва сыграл роль какой-то провокатор. По словам Ходасевича, этот провокатор был привезен из Москвы их общим другом, которого Ходасевич характеризует как человека большого таланта и большого легкомыслия, который «жил… как птица небесная, говорил -- что Бог на душу положит» и к которому провокаторы и шпионы «так и льнули». Гумилёву «провокатор», называвший себя начинающим поэтом, молодой, приятный в обхождении, щедрый на подарки, очень понравился, и они стали часто видеться. Горький говорил потом, что показания этого человека фигурировали в Гумилёвском деле и что он был «подослан». Г. Иванов связывал провокатора с поездкой Гумилёва в Крым летом 1921 года в поезде адмирала Немица и так описывал его: «Он был высок, тонок, с веселым взглядом и открытым юношеским лицом. Носил имя известной морской семьи и сам был моряком -- был произведен в мичманы незадолго до революции. Вдобавок к этим располагающим свойствам, этот „приятный во всех отношениях“ молодой человек писал стихи, очень недурно подражая Гумилёву». По словам Иванова, «провокатор был точно по заказу сделан, чтобы расположить к себе Гумилёва». Хотя в рассказе. Иванова есть подробности, которых нет у Ходасевича, похоже, что речь идет об одном и том же человеке.
Ходасевич же оставил наиболее подробный и точный рассказ о последних часах, проведенных Гумилёвым на свободе. Он писал в своих воспоминаниях:
В конце лета я стал собираться в деревню на отдых. В среду, 3-го августа, мне предстояло уехать. Вечером накануне отъезда пошел я проститься кое с кем из соседей по Дому Искусств. Уже часов в десять постучался к Гумилёву. Он был дома, отдыхал после лекции.
Мы были в хороших отношениях, но короткости между нами не было. И вот, как два с половиной года тому назад меня удивил слишком официальный прием со стороны Гумилёва, так теперь я не знал, чему приписать необычайную живость, с которой он обрадовался моему приходу. Он выказал какую-то особую даже теплоту, ему как будто бы и вообще не свойственную. Мне нужно было еще зайти к баронессе В. И. Икскуль, жившей этажом ниже. Но каждый раз, когда я подымался уйти, Гумилёв начинал упрашивать: «Посидите еще». Так я и не попал к Варваре Ивановне, просидев у Гумилёва часов до двух ночи. Он был на редкость весел. Говорил много, на разные темы. Мне почему-то запомнился только его рассказ о пребывании в царскосельском лазарете, о государыне Александре Феодоровне и великих княжнах. Потом Гумилёв стал меня уверять, что ему суждено прожить очень долго -- «по крайней мере, до девяноста лет». Он все повторял:
Непременно до девяноста лет, уж никак не меньше.
До тех пор собирался написать кипу книг. Упрекал меня:
Вот, мы однолетки с вами, а поглядите: я, право, на десять лет молочке. Это все потому, что я люблю молодежь. Я со своими студистками в жмурки играю -- и сегодня играл. И потому непременно проживу до девяноста лет, а вы через пять лет скиснете.
И он, хохоча, показывал мне, как через пять Лет я буду, сгорбившись, волочить ноги, и как он будет выступать «молодцом».
Прощаясь, я попросил разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на сохранение. Когда на утро, в условленный час, я с вещами подошел к дверям Гумилёва, мне на стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил, что ночью Гумилёва арестовали и увезли. Итак, я был последним, кто видел его на воле. В его преувеличенной радости моему приходу, должно быть, было предчувствие, что после меня он уже никого не увидит.
С рассказом Ходасевича расходится рассказ Георгия Иванова (в статье о Гумилёве в 6-й тетради «Возрождения», ноябрь-декабрь 1949 г.). По словам Иванова, Гумилёв в день ареста вернулся домой около двух часов ночи, проведя весь вечер в студии, среди поэтической молодежи. Иванов ссылается на студистов, которые рассказывали, что в этот вечер Гумилёв был особенно оживлен и хорошо настроен и потому так долго засиделся. Провожавшие Гумилёва несколько барышень и молодых людей якобы видели автомобиль, ждавший у подъезда Дома Искусств, но никто не обратил на это внимания -- в те дни, пишет Иванов, автомобили перестали быть «одновременно и диковиной и страшилищем». Из рассказа Иванова выходит, что это был автомобиль Чеки, а люди, приехавшие в нем, ждали Гумилёва у него в комнате с ордером на обыск и арест.
Подобные документы
Вопрос о соотношении поэзии и действительности и новое литературное направление – акмеизм. Философская основа эстетики. Жанрово-композиционные и стилистические особенности. Отличия акмеизма и адамизма. Анализ выразительных средств поэтов-акмеистов.
реферат , добавлен 25.02.2009
Изучение идеологии акмеистов в литературе, которые провозгласили культ реального земного бытия, "мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь". Основные представители литературного направления акмеизма: Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам, В. Нарбут.
презентация , добавлен 09.07.2010
Серебряный век - период расцвета русской поэзии в начале XX в. Вопрос о хронологических рамках этого явления. Основные направления в поэзии Серебряного века и их характеристика. Творчество русских поэтов - представителей символизма, акмеизма и футуризма.
презентация , добавлен 28.04.2013
Акмеизм - литературное течение, возникшее в начале XX в. в России, материальность, предметность тематики и образов, точность слова в его основе. Анна Ахматова – представитель акмеизма в русской поэзии, анализ жизни и творчество выдающейся поэтессы.
презентация , добавлен 04.03.2012
Значение поэзии Серебряного века для культуры России. Обновление разнообразных видов и жанров художественного творчества, переосмысления ценностей. Характеристика литературных течений в российской поэзии начала ХХ века: символизма, акмеизма, футуризма.
презентация , добавлен 09.11.2013
Возникновение акмеизма. Возврат к материальному миру с его радостями, пороками, злом и несправедливостью. Символизм и акмеизм, футуризм и эгофутуризм эпохи серебряного века. Творчество Николая Гумилева. Романтическая исключительность.
реферат , добавлен 12.12.2006
Серебряный век как образное название периода в истории русской поэзии, относящегося к началу XX века и данное по аналогии с "Золотым веком" (первая треть XIX века). Главные течения поэзии данного периода: символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм.
презентация , добавлен 05.12.2013
Николай Гумилев как основатель акмеизма, место его творчества в лирике Серебряного века. Основные принципы акмеизма. Мотивы и образы в лирике. Лирический герой поэта и его особая энергия. Живописность поэтического мира, особенности ритма и лексики.
контрольная работа , добавлен 29.11.2015
Семья и детство Б. Пастернака. Период обучения за границей, первые сборники стихов. Выбор символизма в результате творческих поисков, связи с Маяковским. Творчество 1923-1925 гг. Проза Пастернака, его деятельность на ниве переводов. Темы и мотивы поэзии.
презентация , добавлен 15.05.2014
Становление поэтического течения акмеизма, его стилевые принципы и представители. Причины возникновения нового течения, связь с символизмом и влияние на него поэтов-символистов. Выработка точных способов передачи внутреннего мира лирического героя.
Приветствую вас, дорогие друзья. В эфире рубрика "Душа поэта" и ее ведущая Виктория Фролова с программой, посвященной творчеству личностей, которые вошли в историю мировой литературы как выдающиеся поэты эпохи Серебряного века русской поэзии.
У меня в руках – книга, вышедшая в 1989 году, воспоминания поэта о поэтах – мемуары Ирины Одоевцевой «На берегах Невы». Именно ее живой рассказ о литературной жизни Петербурга трех послереволюционных лет, с 1918-го по 21-й годы, будет нашим проводником в то противоречивое время. Следует сказать, что именно двадцать лет назад, в конце восьмидесятых, в русской литературе произошло возвращение и своеобразная реабилитация таких имен, как Федор Сологуб, Георгий Иванов, Андрей Белый, Николай Гумилев и многих других поэтов. Тогда начали активно издавать их произведения, изучать их творчество, открывать эпоху, почти полностью вытравленную из сознания нескольких поколений читателей.
Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи и тиховейны,
В них золотой песок и мрамор черный,
Глубокие, прозрачные бассейны.
Растенья в них, как сны, необычайны,
Как воды утром, розовеют птицы,
И – кто поймет намек старинной тайны? –
В них девушка в венке великой жрицы.
И щеки – розоватый жемчуг юга,
Сокровище немыслимых фантазий,
И руки, что ласкали лишь друг друга,
Переплетясь в молитвенном экстазе.
У ног ее – две черные пантеры
С отливом металлическим на шкуре.
Вдали от роз таинственной пещеры
Ее фламинго плавает в лазури.
И не смотрю на мир бегущих линий,
Мои мечты лишь вечному покорны.
Пускай сирокко бесится в пустыне,
Сады моей души всегда узорны.
Мне кажется, это стихотворение как нельзя более точно характеризует главного героя мемуаров Ирины Одоевцевой – поэта Николая Гумилева, расстрелянного большевиками в конце августа 1921 года как контрреволюционера, и по этой причине вычеркнутого новой властью из официальных литературных и литературоведческих изданий на многие десятилетия. Стихотворение «Сады души», которое вы только что слышали, вошло в авторский сборник произведений поэта 1907-10-х годов «Романтические цветы». А главным героем мемуаров Николай Гумилев стал потому, что Ирина Одоевцева, эмигрировавшая из России в 1922 году, была ученицей Гумилева. Ученицей в прямом смысле слова – он обучал ее поэтическому мастерству именно в те годы, о которых идет речь в ее мемуарах. Спустя много лет (а воспоминания написаны в 1967 году), Одоевцева все так же удивляется этому факту своей биографии, как и в те юные годы: «Как началась моя дружба с Гумилевым? Но можно ли наши отношения назвать дружбой? Ведь дружба предполагает равенство. А равенства между нами не было и быть не могло. Я никогда не забывала, что он мой учитель, и он сам никогда не забывал об этом. Говоря обо мне, он всегда называл меня «Одоевцева – моя ученица».
И это явилось счастьем не только для нее, но впоследствии и для многих читателей ее мемуаров, поскольку память у Ирины Одоевцевой была великолепной, а помноженная на эмоциональное восприятие событий и ироничное отношение к себе и к собратьям по лире, она подарила нам захватывающий роман о непостижимой жизни поэтов начала прошлого века, каждый из которых считал себя гением. Одной из героинь этого романа стала, конечно же, и Анна Ахматова – первая жена Гумилева, и, невзирая на их развод и другие браки, в сознании большинства – жена единственная. Вот замечания Одоевцевой на панихиде по Гумилеву: «Ахматова стоит у стены. Одна. Молча. Но мне кажется, что вдова Гумилева не эта хорошенькая, всхлипывающая, закутанная во вдовий креп девочка, а она – Ахматова»…
Я знаю женщину: молчанье,
Усталость горькая от слов
Живет в таинственном мерцанье
Ее расширенных зрачков.
Ее душа открыта жадно
Лишь медной музыке стиха,
Пред жизнью дальней и отрадной
Высокомерна и глуха.
Неслышный и неторопливый,
Так странно плавен шаг ее,
Нельзя назвать ее красивой,
Но в ней все счастие мое.
Когда я жажду своеволий
И смел и горд – я к ней иду
Учиться мудрой сладкой боли
В ее истоме и бреду.
Она светла в часы томлений
И держит молнии в руке,
И четки сны ее, как тени
На райском огненном песке.
Это – стихотворение Николая Гумилева «Она», посвященное Ахматовой, – из авторского сборника «Чужое небо» 1912-го года. И, чтобы не прерывать возвышенного настроя души, созданного поэтом в этом посвящении любимой женщине, прочтем еще одно - из этого же сборника, так им самим и обозначенное – Посвящается Анне Ахматовой
Я верил, я думал, и свет мне блеснул наконец;
Создав, навсегда уступил меня року Создатель.
Я продан! Я больше не Божий! Ушел продавец
И с явной насмешкой глядит на меня покупатель.
Летящей горою за мною несется Вчера,
А Завтра меня впереди ожидает, как бездна,
Иду… но когда-нибудь в Бездну сорвется Гора,
Я знаю, я знаю, дорога моя бесполезна.
И если я волей себе покоряю людей,
И если слетает ко мне по ночам вдохновенье,
И если я ведаю тайны – поэт, чародей,
Властитель вселенной, – тем будет страшнее паденье.
И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,
Оно – колокольчик фарфоровый в желтом Китае
На пагоде пестрой… висит и приветно звенит,
В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.
А тихая девушка в платье из красных шелков,
Где золотом вышиты осы, цветы и драконы,
С поджатыми ножками смотрит без мыслей и слов,
Внимательно слушая легкие, легкие звоны…
Честно говоря, мне кажется странным, что, будучи автором подобных поэтических фантазий, - а их у него чрезвычайно много, - Николай Гумилев стал основоположником такого направления в русской поэзии, как акмеизм, характеризующегося точностью реалий и верностью малейшим деталям жизни. Более того, он считал, что поэзия сродни математике, и, как писала Одоевцева, она «не раз видела, как Гумилев, наморщив лоб и скосив глаза, то писал, то зачеркивал какое-нибудь слово, и, вслух подбирая рифмы, сочинял стихи. Будто решал арифметическую задачу. Ничего таинственного, похожего на чудо, в этом не было».
Точность в деталях и четкость образов, - что, собственно, и отличает акмеизм от других многочисленных направлений русской поэзии начала двадцатого века, - особенно характерны для творчества Анны Ахматовой. Вот, к примеру, одно из ее стихотворений, и, раз уж мы прочли стихи Гумилева, посвященные ей, давайте вспомним посвящение этого периода Ахматовой - ему:
В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашей встречи, мальчик мой веселый.
Только ставши лебедем надменным,
Изменился серый лебеденок.
А на жизнь мою лучом нетленным
Грусть легла, и голос мой незвонок.
1912. Царское Село.
Действительно, в этих скупых строках – и история знакомства двух будущих поэтов, произошедшая в Царском Селе в годы их юности, и точная характеристика личности Гумилева, из искреннего, но невзрачного юноши превратившегося в высокомерного поэта. И даже описание ее внутреннего состояния в период их совместной жизни: «грусть легла» и «голос незвонок».
Гумилев и Ахматова обвенчались в апреле 1910-го года, в 1912 у них родился сын Левушка – как известно, впоследствии ставший опальным историком Львом Гумилевым. В 1918 году они развелись: трудно было двум амбициозным творческим личностям ужиться в рамках брачного союза. Как будто сбылось поэтическое пророчество Ахматовой 1909 года –
И когда друг друга проклинали
В страсти, раскаленной добела,
Оба мы еще не понимали,
Как земля для двух людей мала…
А ведь каждый поэт непременно хотел покорить мир. Но на этом пути неизменно ждут разочарования, смятение души и осознание невозможности достижения горделивых притязаний:
Еще один ненужный день,
Великолепный и ненужный!
Приди, ласкающая тень,
И душу смутную одень
Своею ризою жемчужной.
И ты пришла… ты гонишь прочь
Зловещих птиц – мои печали.
О, повелительница ночь,
Никто не в силах превозмочь
Победный шаг твоих сандалий!
От звезд слетает тишина,
Блестит луна – твое запястье,
И мне во сне опять дана
Обетованная страна –
Давно оплаканное счастье.
Это стихотворение «Вечер» – из последнего сборника Гумилева «Огненный столп». Написано оно, как и другие, вошедшие в сборник, в последние годы его жизни. К тому времени Гумилев был признанным мэтром, основавшим, я бы даже сказала, выстроившим новое направление в русской поэзии.
Но это тему мы продолжим в следующем выпуске рубрики «Душа поэта». Хорошего вам настроения и приятных впечатлений. Всего доброго…
Здравствуйте, уважаемые любители поэзии. Сегодня мы продолжим начатый в предыдущей программе рубрики «Душа поэта» рассказ о таком направлении русской поэзии начала двадцатого века, как акмеизм, и его основателе – Николае Гумилеве.
Надо сказать, что в тот период в литературе появилось не только невероятное количество всяких течений и учений, но и отношение к литературному творчеству и писателям стало каким-то нарочито восторженным, театрально преувеличивавшем значимость тех или иных личностей. Мне кажется, если попробовать подняться над всем этим теоретическим разнообразием, нетрудно будет прийти к выводу, что дробление, я бы даже сказала, расчленение поэтического творчества на составляющие свидетельствует о дробности сознания, без сомнения, творческих личностей.
Многие из которых, конечно, стремились эту дробность в себе изжить, преодолеть. Возможно, именно в такие минуты просветления их посещало вдохновение, и, – как рассказал ранее Тютчев, – с небес спускалась поэзия и открывала тайны бытия. Вероятно, именно в такие минуты Гумилева однажды посетило видение из прошлой жизни, описанное им в сонете, вошедшем в сборник «Чужое небо»:
Я, верно, болен: на сердце туман,
Мне скучно все, и люди, и рассказы,
Мне снятся королевские алмазы
И весь в крови широкий ятаган.
Мне чудится (и это не обман):
Мой предок был татарин косоглазый,
Свирепый гунн… я веяньем заразы,
Через века дошедшей, обуян.
Молчу, томлюсь, и отступают стены –
Вот океан весь в клочьях белой пены,
Закатным солнцем залитый гранит.
И город с голубыми куполами,
С цветущими жасминными садами,
Мы дрались там… Ах, да! Я был убит.
И хотя этот мотив явно перекликается с блоковскими «Скифами», известный литературовед Лев Аннинский в одной из своих статей отметил, что «огненную запаленность мироздания Гумилёв противопоставляет поэтике Александра Блока и символистов. На поверхности литературной борьбы это неприятие осознается сторонниками Гумилёва как бунт четкости против расплывчатости. Символизм в их понимании - это когда некто некогда говорит нечто о ничём… А надо давать ясные имена вещам, как это делал первый человек Адам. Термин «адамизм», выдвинутый Гумилёвым, не принят - принят придуманный про запас сподвижником Гумилёва Сергеем Городецким термин «акмеизм» - от греческого слова «акме» - высшая, цветущая форма чего-либо. Вдохновителем и вождем направления остается тем не менее Гумилёв.
Он создает «Цех поэтов» и становится его «синдиком», то есть мастером. В 1913 году в статье «Наследие символизма и акмеизм» он объявляет, что символизм закончил свой «круг развития». Пришедший ему на смену акмеизм призван очистить поэзию от «мистики» и «туманности», он должен вернуть слову точное предметное значение, а стиху - «равновесие всех элементов».
Однако, настоящими акмеистами считались всего несколько человек, и Анна Ахматова была самой яркой из всех поэтов этого направления. И, кто знает, возможно, именно ее авторский стиль и вдохновил Гумилева на создание для него так называемой теоретической базы?
* * *
В последний раз мы встретились тогда
На набережной, где всегда встречались.
Была в Неве высокая вода,
И наводненья в городе боялись.
Он говорил о лете и о том,
Что быть поэтом женщине – нелепость.
Как я запомнила высокий царский дом
И Петропавловскую крепость! –
Затем что воздух был совсем не наш,
А как подарок божий – так чудесен.
И в этот час была мне отдана
Последняя из всех безумных песен.
Это стихотворение написано Ахматовой как раз в период оформления акмеизма в самостоятельное направление – в 1914 году. Но давайте вернемся к мемуарам ученицы Гумилева, Ирины Одоевцевой, «На берегах Невы». Напомню, она описывает события в поэтических кругах послереволюционного Петербурга, когда старая жизнь кардинально и стремительно изменилась, обещая, несмотря на полную разруху, счастливую жизнь, новую. В том числе, и в искусстве: осенью 1918 года открылся Институт живого слова, куда, на литературное отделение, со страстным желанием выучиться на поэта, записалась юная Одоевцева. Здесь она и стала сначала слушательницей, а потом преданной и исключительно старательной ученицей Николая Гумилева. Не без удовольствия процитирую ее рассказ об одном из занятий, проводимых поэтом:
«Гумилеву очень нравилось, что я старалась никому не подражать. Никому. Даже Ахматовой. Особенно Ахматовой*… И в «Живом слове», и в студии слушательницы в своих стихотворных упражнениях все поголовно подражали Ахматовой, властительнице их дум и чувств. Они вдруг поняли, что тоже могут говорить «о своем, о женском». И они заговорили. «Подахматовками» Гумилев называл всех неудачных подражательниц Ахматовой. - Это особый сорт грибов-поганок, растущих под «Четками», - объяснял он, - подахматовки. Вроде мухоморов.
Но, несмотря на издевательства, «подахматовки» не переводились. Одна из слушательниц курсов самоуверенно продекламировала однажды: «Я туфлю с левой ноги \ на правую ногу надела». - Ну и как? - прервал ее Гумилев. - Так и доковыляли домой? Или переобулись в ближайшей подворотне?
Но, конечно, многие подражания были лишены комизма и не служили причиной веселья Гумилева и его учеников. Так строки «Одною болью стало больше в мире, \ и в небе новая зажглась звезда… - даже удостоились снисходительной похвалы мэтра. - Если бы не было: «Одной улыбкой меньше стало. Одною песней больше будет», - прибавил он», - конец цитаты.
Однако, в мемуарах Одоевцевой, помимо Гумилева и Ахматовой, конечно, много других действующих лиц и событий той поэтической эпохи. К примеру, с особой теплотой и восхищением она вспоминает об Осипе Мандельштаме. Одним из ярких впечатлений на всю жизнь у нее осталось первое чтение Мандельштамом в Петербурге его новых стихов, объединенных в сборник «Тристии». В кругу друзей-поэтов – Николая Гумилева, Георгия Иванова, Николая Оцупа, Михаила Лозинского и, конечно же, ученицы Гумилева Одоевцевой – по свидетельству последней, произошло настоящее явление поэзии ее искушенным адептам: «Гумилев каменно застыл, держа своими длинными пальцами детскую саблю, – записала впоследствии Ирина Одоевцева. – Он забыл, что ею надо поправлять мокрые поленья и ворошить угли, чтобы поддерживать огонь. И огонь в печке почти погас. Но этого ни он и никто другой не замечает.
Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина.
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме любимая всеми жена,
Не Елена, другая, как долго она вышивала…
Мандельштам резко и широко взмахивает руками, будто дирижирует невидимым оркестром. Голос его крепнет и ширится. Он уже не говорит, а поет в сомнамбулическом самоупоении:
Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.
Последняя строфа падает камнем. Все молча смотрят на Мандельштама, и я уверена, совершенно уверена, что в этой потрясенной тишине они, как и я, видят не Мандельштама, а светлую «талассу», адриатические волны и корабль с красным парусом, «пространством и временем полный», на котором возвратился Одиссей», - конец рассказа.
Трудно поверить, что Мандельштам, конечно же, не был свидетелем тех античных событий, хотя точность образов у него вполне акмеистическая**. Зато сам Гумилев, как известно, вполне последовательно теорию старался максимально превратить в практику, и если его душа требовала героических поступков – отправлялся в экзотическую Африку охотиться на львов и на живые впечатления. Шел добровольцем в армию и как офицер храбро вел солдат в бой. Не скрывал своего происхождения и верности монархии в большевистском Петербурге.
И, к примеру, его «Жираф» – это вовсе не романтические мечты о неведомых странах, а попытка рассказать не только о других мирах, но и о других возможностях, которые могут открыться душе, если душа – откроется миру:
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.
Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.
Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала болотный туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.
И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав…
Ты плачешь? Послушай… далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Этим строками нельзя не поверить, особенно зная, что их автор сам бывал «далеко, далеко на озере Чад», и своими глазами видел диковинное создание природы. По свидетельству Ирины Одоевцевой, Гумилев считал, что «жизнь поэта не менее важна, чем его творчество. Поэтому необходима напряженная, разнообразная жизнь, полная борьбы, радостей и огорчений, взлетов и падений. Ну и, конечно, любви».
К сожалению, невозможно процитировать всю эту замечательную книгу воспоминаний «На берегах Невы» - о, пожалуй, самом ярком и трагическом периоде русской поэзии и о неординарных представителях Серебряного века. Мы лишь слегка пролистали ее страницы.
Но стоит заметить, что насыщенная жизнь и ее осмысление важны для развития любой личности. А поэты имеют счастливый талант – делиться своим творческим опытом и раскрывать самые разнообразные тайны бытия и нашей собственной души. И вы всегда имеете возможность самостоятельно обращаться к любимым стихотворениям...
*Еще об Ахматовой - здесь.
План 1. Теоретические основы акмеизма. 2. Гумилева. 3. Библиография 1. Теоретические основы акмеизма К эпохе серебряного века принадлежат символизм и акмеизм, футуризм и эгофутуризм и многие другие течения. "И хотя мы зовем это время серебряным, а не золотым веком, может быть, оно было самой творческой эпохой в российской истории" (Крейд 10). Акмеисты (от греческого слова “акме” - цветущая пора, высшая степень чего-либо) призывали очистить поэзию от философии и всякого рода “методологических” увлечений, от использования туманных намеков и символов, провозгласив возврат к материальному миру и принятие его таким, каков он есть: с его радостями, пороками, злом и несправедливостью, демонстративно отказываясь от решения социальных проблем и утверждая принцип “искусство для искусства”. В 1912 году сборником "Гиперборей" заявило о себе новое литературное течение, назвавшее себя акмеизмом.
Акмеизм возникает в период, когда символистская школа была на излете, возникает на платформе отрицания отдельных программных положений символизма и, в частности, его мистических устремлений.
Однако своим рождением акмеизм обязан прежде всего символизму, и Н. Гумилев справедливо именует своих собратьев "наследниками достойного отца". "Собратьями" Н. Гумилева стали поэты С. Городецкий, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Зенкевич, В. Нарбут, которые и объединились в группу "Цех поэтов" В 1911-1914 годах у них, кроме журнала "Аполлон", издававшегося С. Маковским, были свои печатные органы - журнал "Гиперборей" и различные альманахи.
Организаторами группы и теоретиками нового течения были Николай Гумилев и Сергей Городецкий.Противопоставляя себя символизму, акмеисты провозглашали высокую самоценность земного, здешнего мира, ею красок и форм. С. Городецкий писал: "После всех "неприятий" мир бесповоротно принят акмеизмом, по всей совокупности красот и безобразий Если это борьба с символизмом, а не занятие покинутой крепости, это есть, прежде всего борьба за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, вес и время, за нашу планету Землю". Итак, одна из первых заповедей акмеистов - поклонение Земле, Солнцу, Природе.
Из нее следует вторая, близкая к ней: утверждение первобытного начала в человеке, прославление его противостояния природе.М. Зенкевич писал: "Современный человек почувствовал себя зверем, Адамом, который огляделся тем же ясным, зорким оком, принял все, что увидел, и пропел жизни и миру аллилуйя".Каждый из акмеистов считал своим долгом прославить первочеловека - Адама - и славили - Н. Гумилев увидел в нем то начало, которое бросает вызов даже богам: В суровой доле будь упрям, Будь хмурым, бледным и согбенным, И не скорби по тем плодам, Неискушенным и презренным Адам встречается в поэзии Гумилева то в образе экзотического конквистадора, покорителя морей ("Путешествие в Китай"), то в образе белого завоевателя, сверхчеловека, "паладина Зеленого храма", "королевского пса, флибустьера", что идет "дерзостным путем", "отряхивая ударами трости клочья пены с высоких ботфорт". С. Городецкий в своем стихотворении "Адам" поручает первочеловеку "просторный и многозвучный мир", он должен "живой земле пропеть хвалы". В самом начале пути некоторые представители нового течения даже предлагали назвать его - адамизмом. Третья заповедь акмеистов также соотносится с первыми двумя: утверждение крайнего индивидуализма связано с образом человека, который оторван от родины, это тот, "кто дерзает, кто ищет, кому опостылели страны отцов.
У С. Городецкого подобный герой является в образе примитивного дикаря: Я молод, волен, сыт и весел В степях иду, степям пою. Постепенно формировался свой поэтический стиль.
Стихи акмеистов отличались сжатостью, спрессованностью слова, строгим равновесием плотной, литой строфы, любовным обращением с эпитетом, зримой конкретностью и пластикой в лучших своих проявлениях.
Причем каждый из поэтов "Цеха" нес при этом в большую поэзию сугубо свое индивидуальное начало.
Трагичность мироощущения Гумилева сочеталось с его любовью к Земле, свободное чувство проверялось литературной дисциплиной, преданностью искусству, ставилось поэтом превыше всего. Итак, акмеисты осознавали себя наследниками символизма, использовавшими его достижения для создания новых ценностей.Какое же именно мировоззренческое "наследство" символистов оказалось актуальным для акмеистов? "Акмеисты стали писать стихи, казавшиеся самостоятельными и новыми однако так, что начитанный человек легко угадывал в их словах и словосочетаниях отсылки то к Пушкину, то к Данте. Это литература, опирающаяся на литературу. Футуристы поступали иначе: они делали все возможное, чтобы казаться абсолютно новыми, небывалыми… Писать стихи нужно было так, будто это первые стихи на свете, будто это сочинение первого человека на голой земле." . Одной из центральных идей романтизма и его наследника - символизма - является идея двоемирия.
Суть этой идеи - в существовании двух реальностей, так или иначе связанных между собой.
Есть Бог, значит, есть и "иерархия в мире явлений", есть "самоценность" каждой вещи. Все получает смысл и ценность: все явления находят свое место: все весомо, все плотно. Равновесие сил в мире -устойчивость образов в стихах. В поэзии водворяются законы композиции, потому что мир построен.Дерзания мифотворцев и богоборцев сменяются целомудрием верующего зодчего: "труднее построить собор, чем башню". Статью "Наследие символизма и акмеизм" Гумилев начал с заявления, подготовленного его другими статьями о том, что "символизм закончил свой круг развития и теперь падает… На смену символизма идет новое направление, как бы оно не называлось, акмеизм ли (от слова … - высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора), или адамизм (мужественный твердый и ясный взгляд на жизнь), во всяком случае, требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субьектом и обьектом, чем то было в символизме.". Признавая достижения символизма, Гумилев категорически отверг не только русский символизм, но также французский и германский, слишком следовавший, по его мнению, догматам, что лишало его возможности "чувствовать самоценность каждого явления" . Центральной категорией акмеистического мировоззрения остается категория культуры, достаточно вспомнить знаменитое мандельштамовское определение акмеизма как тоски по мировой культуре. Однако, в отличие от символистского понимания культуры, она выступает для них не столько как создание человека, сколько как открытие изначального смысла в окружающем мире. Человек в таком случае - не создатель, собственным существованием отрицающий Творца, но та часть промысла, благодаря которой открывается смысл всего сущего.
Из негативных оценок Гумилева вырисовывалась программа акмеизма: во-первых, никакой мистики, никакого братания с потусторонним миром; во-вторых, точность в соответствии слов предмету воображения; в-третьих, равное в художественном смысле отношение ко всем моментам жизни, малым, большим, ничтожным или великим - с целью объективно-художественной полноты охвата мира. "Мы ощущаем себя явлениями среди явлений", последнее, по мнению А.И. Павловского, "заключает в себе проповедь отстраненности от каких-либо оценок, тем более суда над действительностью.". Как мы уже говорили, манифесты акмеистов были наиболее эксплицитным выражением их мировоззрения.
Однако рефлексивное понимание далеко не всегда соответствует реальному положению дел, к тому же манифесты отражают не только убеждения поэтов, но и обстоятельства литературного процесса. 2. Литературно – критическая деятельность Н.Гумилева Николай Степанович Гумилев был не только выдающимся поэтом, но и тонким, проницательным литературным критиком.
В годы, в которые он жил, это не было исключением.
Начало XX века было одновременно и порой расцвета русской поэзии, и временем постоянно рождавшихся литературных манифестов, возвещавших программу новых поэтических школ, временем высокопрофессионального критического разбора и оценки произведений классической и современной поэзии - русской и мировой.
В качестве критиков и теоретиков искусства выступали в России почти все сколько-нибудь выдающиеся поэты-современники Гумилева - И. Ф. Анненский, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, А. А. Блок, Вяч. Иванов, А. Белый, М. А. Кузмин, М. Цветаева, В. Ходасевич, М. А. Волошин и многие другие.
Начав свою критическую деятельность в качестве рецензента поэтических книге в газете «Речь» в конце 1890-х годов, Гумилев продолжил ее с 1909 по 1916 г. в журнале «Аполлон». Статьи его, печатавшиеся здесь из номера в номер в разделе журнала «Письма о русской поэзии», составили своеобразный цикл. В нем обрисована широкая картина развития русской поэзии этой поры (причем не только в лице первостепенных ее представителей, но и поэтов второго и даже третьего ряда). В те же годы были опубликованы первые статьи Гумилева, посвященные теоретическим вопросам русской поэзии и русского стиха, в том числе знаменитая статья «Наследие символизма и акмеизм» (1913) - один из двух главных теоретических манифестов отстаивавшегося Гумилевым направления в поэзии, за которым надолго закрепилось предложенное им название «акмеизм», - направление, которое Гумилев и его поэтические друзья и единомышленники стремились противопоставить символизму. Кроме «Аполлона» Гумилев выступал в качестве критика в органе «Цеха поэтов» - журнале «Гиперборей», «ежемесячнике стихов и критики», который выходил в 1912–1913 гг. под редакцией его друга М. Л. Лозинского (впоследствии известного поэта-переводчика). О литературно-критических статьях и рецензиях Гумилева в научной и научно-популярной литературе о русской поэзии XX в. написано немало - и у нас, и за рубежом. Но традиционный недостаток едва ли не всех работ на эту тему состоит в том, что они всецело подчинены одной (хотя и достаточно существенной для характеристики позиции Гумилева) проблеме «Гумилев и акмеизм». Между тем, хотя Гумилев был лидером акмеизма (и так же смотрело на него большинство его последователей и учеников), поэзия Гумилева - слишком крупное и оригинальное явление, чтобы ставить знак равенства между его художественным творчеством и литературной программой акмеизма.
Свою литературно-критическую деятельность Гумилев начал с рецензий на книги, выходившие в 1908 и последующие годы. По преимуществу это были поэтические сборники как уже признанных к этому времени поэтов-символистов старшего и младшего поколения (Брюсова, Сологуба, Бальмонта, А. Белого и др.), так и начинавшей в те годы поэтической молодежи. Впрочем, иногда молодой Гумилев обращался и к критической оценке прозы - «Второй книги отражений» И. Ф. Анненского, рассказов М. Кузмина и С. Ауслендера и т. д. Но основное внимание Гумилева-критика с первых его шагов в этой области принадлежало поэзии: напряженно ища свой собственный путь в искусстве (что, как мы знаем, давалось ему нелегко), Гумилев внимательно всматривался в лицо каждого из своих поэтов-современников, стремясь, с одной стороны, найти в их жизненных и художественных исканиях близкие себе черты, а с другой - выяснить для себя и строго оценить достоинства и недостатки их произведений.
Выросший и сложившийся в эпоху высокого развития русской поэтической культуры, Гумилев смотрел на эту культуру как на величайшую ценность и был одушевлен идеей ее дальнейшего поддержания и развития.
Причем в отличие от поэтов-символистов идеалом Гумилева была не музыкальная певучесть стиха, зыбкость и неопределенность слов и образов (насыщенных в поэзии символистов «двойным смыслом», ибо цель их состояла в том, чтобы привлечь внимание читателя не только к миру внешних, наглядно воспринимаемых явлений, но и к миру иных, стоящих за ними более глубоких пластов человеческого бытия), но строгая предметность, предельная четкость и выразительность стиха при столь же строгой, чеканной простоте его внешнего композиционного построения и отделки. Отвечая в 1919 г. на известную анкету К. И. Чуковского («Некрасов и мы») о своем отношении к Некрасову, Гумилев откровенно казнил себя за «эстетизм», мешавший ему в ранние годы оценить по достоинству значение некрасовской поэзии.
И вспоминая, что в его жизни была пора («от 14 до 16 лет»), когда поэзия Некрасова была для него дороже поэзии Пушкина и Лермонтова, и что именно Некрасов впервые «пробудил» в нем «мысль о возможности активного интереса личности к обществу», «интерес к революции», Гумилев высказывал горькое сожаление о том, что влияние Некрасова, «к несчастью», не отразилось на позднейшем его поэтическом творчестве (3,74). Этого мало. В последней своей замечательной статье «Поэзия Бодлера», написанной в 1920 г. по поручению издательства «Всемирная литература» (сборник стихов Бодлера, для которого была написана эта статья, остался в то время неизданным), Гумилев писал о культуре XIX в.: «Девятнадцатый век, так усердно унижавшийся и унижаемый, был по преимуществу героическим веком.
Забывший Бога и забытый Богом человек привязался к единственному, что ему осталось, к земле, и она потребовала от него не только любви, но и действия.
Во всех областях творчества наступил необыкновенный подъем.
Люди точно вспомнили, как мало еще они сделали, и приступили к работе лихорадочно и в то же время планомерно. Таблица элементов Менделеева явилась только запоздалым символом этой работы. „Что еще не открыто?“ - наперебой спрашивали исследователи, как когда-то рыцари спрашивали о чудовищах и злодеях, и наперебой бросались всюду, где оставалась хоть малейшая возможность творчества.
Появился целый ряд новых наук, прежние получили неожиданное направление.
Леса и пустыни Африки, Азии и Америки открыли свои вековые тайны путешественникам, и кучки смельчаков, как в шестнадцатом веке, захватывали огромные экзотические царства.
В недрах европейского общества Лассалем и Марксом была открыта новая мощная взрывчатая сила - пролетариат.
В литературе три великие теченья, романтизм, реализм и символизм, заняли место наряду с веками царившим классицизмом». Нетрудно увидеть, что Гумилев здесь в духе призывов Блока (хотя он и не мог читать его статьи) рассматривает развитие мировой культуры XIX в. в «едином мощном потоке», пытаясь обнаружить в движении его отдельных областей связующие их общие закономерности.
При этом литература и общественность, путь, пройденный поэзией, наукой и социальной мыслью XIX в рассматриваются Гумилевым как часть единой, общей «героической» по своему характеру работы человеческой мысли и творчества.
Мы видим, таким образом, что в последний период жизни Гумилев вплотную подошел к пониманию того единства и взаимосвязи всех сторон человеческой культуры - в том числе «поэзии» и «общественности», - к которому его призывал Блок. В поэзии Некрасова, как и в поэзии Бодлера, Кольриджа, Соути, Вольтера (и других поэтов, к которым он обратился в последние годы жизни), Гумилев сумел уловить не только черты, общие с породившей творчество каждого из них эпохой, присутствие в их жизни и поэзии выводящих за пределы мира одного лишь поэтического слова, более широких философских и общественно-исторических интересов.
Понимание высокого назначения поэзии и поэтического слова, призванных своим воздействием на мир и человека способствовать преображению жизни, но подвергшихся измельчанию и обесценению в результате трагического по своим последствиям общего упадка и измельчания современной жизни и культуры, Путь Гумилева, по существу, вел его от «преодоления символизма» (по выражению В. М. Жирмунского) к «преодолению акмеизма». Однако к последнему этапу этого пути (который оказался высшим этапом в развитии Гумилева - поэта и человека) он подошел лишь в конце жизни.
Маска поэта - «эстета» и «сноба», любителя «романтических цветов» и «жемчугов» «чистой» поэзии - спала, приоткрыв скрытое под нею живое человеческое лицо. Тем не менее не следует думать, что «позднее» творчество Гумилева некоей «железной стеной» отделено от раннего. При углубленном, внимательном отношении к его стихотворениям, статьям и рецензиям 1900–1910-х годов уже в них можно обнаружить моменты, предвосхищающие позднейший поэтический взлет Гумилева.
Это полностью относится к «Письмам о русской поэзии» и другим литературно-критическим и теоретическим статьям Гумилева.Очень часто кругозор автора «Писем о русской поэзии», как верно почувствовал Блок, был чрезвычайно сужен не только в эстетическом, но и в историческом отношении. Творчество современных ему русских поэтов Гумилев рассматривает, как правило, в контексте развития русской поэзии конца XIX-начала XX в. В этих случаях вопрос о традициях большой классической русской поэзии XIX в. и их значении для поэзии XX в. почти полностью выпадает из поля его зрения.
Повторяя достаточно избитые в ту эпоху фразы о том, что символизм освободил русскую поэзию от «вавилонского пленения» «идейности и предвзятости», Гумилев готов приписать Брюсову роль своего рода поэтического «Петра Великого», который совершил переворот, широко открыв для русского читателя «окно» на Запад, и познакомил его с творчеством французских поэтов-"парнасцев" и символистов, достижения которых он усвоил, обогатив ими художественную палитру, как свою, так и других поэтов-символистов (235; письмо VI). В соответствии с этой тенденцией своих взглядов Гумилев стремится в «Письмах» говорить о поэзии - и только о поэзии, настойчиво избегая всего того, что ведет за ее пределы.
Но характерно, что родословную русской поэзии уже молодой Гумилев готов вести не только с Запада, но и с Востока, считая, что историческое положение России между Востоком и Западом делает для русских поэтов одинаково родными поэтический мир и Запада, и Востока (297–298; письмо XVII). При этом в 1912 г. он готов видеть в Клюеве «провозвестника новой силы, народной культуры», призванной сказать в жизни и в поэзии свое новое слово, выражающее не только «византийское сознание золотой иерархичности», но и «славянское ощущение светлого равенства всех людей» (282–283, 299; письма XV и XVII). Если верить декларации Гумилева, он хотел бы остаться всего лишь судьей и ценителем стиха.
Но свежий воздух реальной жизни постоянно врывается в его характеристики поэтов и произведений, привлекающих его внимание.
И тогда фигуры этих поэтов, их человеческий облик и их творения оживают для нас. Творения эти открываются взору современного человека во всей реальной исторической сложности своего содержания и формы.
Статью «Жизнь стиха» (1910) Гумилев начинает с обращения к спору между сторонниками «чистого» искусства и поборниками тезиса «искусство для жизни». Однако, указывая, что «этот спор длится уже много веков» и до сих пор не привел ни к каким определенным результатам, причем каждое из обоих этих мнений имеет своих сторонников и выразителей, Гумилев доказывает, что самый вопрос в споре обеими сторонами поставлен неверно.
И именно в этом - причина его многовековой неразрешенности, ибо каждое явление одновременно имеет «право… быть самоценным», не нуждаясь во внешнем, чуждом ему оправдании своего бытия и вместе с тем имеет «другое право, более высокое- служить другим» (также самоценным) явлениям жизни . Иными словами, Гумилев утверждает, что всякое явление жизни - в том числе поэзия - входит в более широкую, общую связь вещей, а потому должно рассматриваться не только как нечто отдельное, изолированное от всей совокупности других явлений бытия, но и в его спаянности с ними, которая не зависит от наших субъективных желаний и склонностей, а существует независимо от последних, как неизбежное и неотвратимое свойство окружающего человека реального мира. Таким образом, истинное произведение поэзии, по Гумилеву, насыщено силой «живой жизни». Оно рождается, живет и умирает, как согретые человеческой кровью живые существа, - и оказывает на людей своим содержанием и формой сильнейшее воздействие.
Без этого воздействия на других людей нет поэзии. « Искусство, родившись от жизни, снова идет к ней, не как грошевый поденщик, не как сварливый брюзга, а как равный к равному». Следующим после «Жизни стихов» выступлением Гумилева - теоретика поэзии - явился его знаменитый манифест, направленный против русского символизма, - «Наследие символизма и акмеизм» (напечатанный рядом с другим манифестом - С. М. Городецкого). Гумилев начал трактат с заявления, подготовленного его предыдущими статьями, о том, что «символизм закончил свой круг развития и теперь падает» . При этом он - и это крайне важно подчеркнуть - дает дифференцированную оценку французского, немецкого и русского символизма, характеризуя их (это обстоятельство до сих пор, как правило, ускользало от внимания исследователей гумилевской статьи) как три разные, сменившие последовательно друг друга ступени в развитии литературы XX в. Французский символизм, по Гумилеву, явился «родоначальником всего символизма». Но при этом в лице Верлена и Малларме он «выдвинул на передний план чисто литературные задачи». С их решением связаны и его исторические достижения (развитие свободного стиха, музыкальная «зыбкость» слога, тяготение к метафорическому языку и «теория соответствий» - «символическое слияние образов и вещей»). Однако, породив во французской литературе «аристократическую жажду редкого и труднодостижимого», символизм спас французскую поэзию от влияния угрожавшего ее развитию натурализма, но не пошел дальше разработки всецело занимавших его представителей «чисто литературных задач». Следует также подчеркнуть, что, утверждая программу акмеизма как поэтического направления, призванного историей сменить символизм, Гумилев чрезвычайно высоко оценивает поэтическое наследие символистов, призывая своих последователей учесть неотъемлемые достижения символистов в области поэзии и опереться на них в своей работе - преодоления символизма, - без чего акмеисты не смогли бы стать достойными преемниками символистов.
Последние три теоретико-литературных опыта Гумилева - «Читатель», «Анатомия стихотворения» и трактат о вопросах поэтического перевода, написанный для коллективного сборника статей «Принципы художественного перевода», подготовленного в связи с необходимостью упорядочить предпринятую по инициативе М. Горького издательством «Всемирная литература» работу по переводу огромного числа произведений зарубежной классики и подвести под нее строгую научную основу (кроме Гумилева в названном сборнике были напечатаны статьи К. И. Чуковского и Ф. Д. Батюшкова, литературоведа-западника, профессора), отделены от его статей 1910–1913 гг. почти целым десятилетием.
Все они написаны в последние годы жизни поэта, в!917–1921 гг. В этот период Гумилев мечтал, как уже было замечено выше, осуществить возникший у него ранее, в связи с выступлениями в Обществе ревнителей русского слова, а затем в Цехе поэтов, замысел создать единый, стройный труд, посвященный проблемам поэзии и теории стиха, труд, подводящий итоги его размышлениям в этой области.
До нас дошли различные материалы, связанные с подготовкой этого труда, который Гумилев собирался в 1917 г. назвать «Теория интегральной поэтики», - общий его план и «конспект о поэзии» (1914 ?), представляющий собой отрывок из лекций о стихотворной технике символистов и футуристов.
Статьи «Читатель» и «Анатомия стихотворения» частично повторяют друг друга.
Возможно, что они были задуманы Гумилевым как два хронологически различных варианта (или две взаимосвязанные части) вступления к «Теории интегральной поэтики». Гумилев суммирует здесь те основные убеждения, к которым привели его размышления о сущности поэзии и собственный поэтический опыт. Впрочем, многие исходные положения этих статей сложились в голове автора раньше и были впервые более бегло высказаны в «Письмах о русской поэзии» и статьях 1910–1913 гг. В эссе «Анатомия стихотворения» Гумилев не только исходит из формулы Кольриджа (цитируемой также в статье «Читатель»), согласно которой «поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке» (185, 179), но и объявляет ее вслед за А. А. Потебней «явлением языка или особой формой речи» (186). Поэтика, по Гумилеву, отнюдь не сводится к поэтической «фонетике», «стилистике» и «композиции», но включает в себя учение об «эйдологии» - о традиционных поэтических темах и идеях.
Своим главным требованием акмеизм как литературное направление - утверждает Гумилев - «выставляет равномерное внимание ко всем четырем разделам» (187–188). Так, как с одной стороны, каждый момент звучания слова и каждый поэтический штрих имеют выразительный характер, влияют на восприятие стихотворения, а с другой - слово (или стихотворение), лишенное выразительности и смысла, представляет собою не живое и одухотворенное, а мертворожденное явление, ибо оно не выражает лик говорящего и вместе с тем ничего не говорит слушателю (или читателю). Сходную мысль выражает статья «Читатель». Поэт в минуты творчества должен быть «обладателем какого-нибудь ощущения, до него неосознанного и ценного.
Это рождает в нем чувство катастрофичности, ему кажется, что он говорит свое последнее и самое главное, без познания чего не стоило земле и рождаться.
Это совсем особенное чувство, иногда наполняющее таким трепетом, что оно мешало бы говорить, если бы не сопутствующее ему чувство победности, сознание того, что творишь совершенные сочетания слов, подобные тем, которые некогда воскрешали мертвых, разрушали стены» . Последние слова приведенного фрагмента непосредственно перекликаются с цитированным стихотворением «Слово», проникнуты тем высоким сознанием пророческой миссии поэта и поэзии, которое родилось у Гумилева после Октября, в условиях высшего напряжения духовных сил поэта, рожденного тогдашними очищающими и вместе с тем суровыми и жестокими годами.
Заключая статью, Гумилев анализирует разные типы читателей, повторяя свою любимую мысль, что постоянное изучение поэтической техники необходимо поэту, желающему достигнуть полной поэтической зрелости.
При этом он оговаривается, что ни одна книга по поэтике (в том числе и задуманный им трактат) "не научит писать стихи, подобно тому, как учебник астрономии не научит создавать небесные светила.
Однако и для поэтов она может служить для проверки своих уже написанных вещей и в момент, предшествующий творчеству, даст возможность взвесить, достаточно ли насыщено чувство, созрел образ и сильно волнение, или лучше не давать себе воли и приберечь силы для лучшего момента ", ибо «писать следует не тогда, когда можно, а когда должно» В статье о принципах поэтического перевода (1920) Гумилев обобщил свой опыт блестящего поэта-переводчика.
Тончайший мастер перевода, он обосновал в ней идеал максимально адекватного стихотворного перевода, воспроизводящего характер интерпретации автором «вечных» поэтических образов, «подводное течение темы», а также число строк, метр и размер, характер рифм и словаря оригинала, свойственные ему «особые приемы» и «переходы тона». Эта статья во многом заложила теоретический фундамент той замечательной школы переводчиков 20-х годов, создателями которой явились Гумилев и его ближайший друг и единомышленник в области теории и практики художественного перевода М. Л. Лозинский. Особый интерес представляет попытка Гумилева определить «душу» каждого из главнейших размеров русского стиха, делающую его наиболее подходящим для решения тех художественных задач, которые поэт преследует при его употреблении.
Живя в 1906–1908 гг. в Париже, Гумилев широко приобщается к французской художественной культуре.
До поездки в Париж он, по собственному признанию в письме к Брюсову, недостаточно свободно владея французским языком, был сколько-нибудь полно знаком из числа французскоязычных писателей лишь с творчеством Метерлинка (да и того читал преимущественно по-русски). В Париже Гумилев овладевает французским языком, погружается в кипучую художественную жизнь Парижа.
Вслед за Брюсовым и Анненским он берет на себя миссию расширить и обогатить знакомство русского читателя с Французским искусством и поэзией, постепенно продвигаясь в ее изучении от творчества своих современников и их ближайших предшественников - поэтов-символистов и парнасцев - до ее более отдаленных истоков.
Наиболее плодотворный период историко-литературных штудий Гумилева - начало 1918–1921 г. В это время диапазон его историко-литературных интересов расширяется, причем историко-литературные занятия идут у него рука об руку с интенсивной издательской и переводческой деятельностью.
В 1918 г. Гумилев переводит с французского перевода П. Дорма древневавилонский эпос «Гильгамеш», которому предпосылает вступительную заметку, разъясняющую характер и методику его поэтической реконструкции подлинника.
В сжатом и лаконичном (опубликованном посмертно) предисловии к переводу «Матроны из Эфеса» Петрония Гумилев стремится ввести и фигуру автора этой «гадкой, но забавной сплетни», и ее саму, как прообраз жанра новеллы, получившей позднее широчайшее развитие в литературе нового времени (от эпохи позднего средневековья и Возрождения до наших дней), во всемирно-исторический контекст, отмечая в ней черты, предвещающие «пессимистический реализм» Мопассана.
Выше уже упоминалось о предисловии Гумилева, написанном для собрания переводов французских народных песен, подготовлявшегося издательством « Всемирная литература». Критик дает здесь емкую и содержательную характеристику французской народной поэзии, стремясь примирить те два противоположных ответа, которые сравнительно-историческая литературная наука XIX в. давала на вопрос о причинах, обусловивших сходные мотивы, объединяющие народные песни, поэмы и сказки разных стран и народов: это сходство, по Гумилеву, могло быть как следствием того, что в разной географической и этнической среде «человеческий ум сталкивался с одними и теми положениями, мыслями», рождавшими одинаковые сюжеты, так и результатом разнородного «общения народов между собой», заимствованием песенных сюжетов и мотивов друг у друга странствующими певцами, в качестве посредников между которыми определенное место занимали «грамотные монахи», охотно сообщавшие нищим поэтам-слепцам и другим странникам «истории, сложенные поэтами-специалистами» Для издательства «Всемирная литература» были написаны Гумилевым и предисловия к переведенной им «Поэме о старом моряке» o Т. Кольриджа, равно как и к составленному им сборнику переводов баллад другого английского поэта-романтика начала XIX в. Р. Соути. Оба этих поэта так называемой озерной школы были широко известны в свое время в России - классические переводы из Р. Соути создали А. Жуковский и А. С. Пушкин.
И посвященная темам морских блужданий и опасностей, жизни и смерти «Поэма о старом моряке» Кольриджа, и эпические по своему складу баллады Соути были созвучны характеру дарования самого Гумилева; как переводчик, он вообще тяготел к переводу произведений, близких ему по своему духовному строю (это относится не только к произведениям Готье, Кольриджа и Соути, но и к стихотворениям Ф. Вийона, Л. де Лиля, Ж. Мореаса, сонетам Ж. М. Эредиа, часть которых была блестяще переведена Гумилевым, «Орлеанской девственнице» Вольтера, в переводе которой он принял участие в последние годы жизни). Как видно из предисловия Гумилева к «Эмалям и камеям» Готье, творчество поэтов «озерной школы» привлекло его внимание уже в это время, однако посвятить время работе над подготовкой русских изданий их сочинений и выразить свое отношение к ним в специально посвященных им статьях он смог только в послереволюционные годы. Особый интерес этюдам Гумилева о Кольридже и Соути придает явно ощущаемый в них автобиографический подтекст - Гумилев мысленно соотносит свою беспокойную судьбу с жизнью этих поэтов, а их поэтику и творческие устремления - с поэтикой акмеистов. «Поэмы о старом моряке» - утверждение, которое Гумилев подкрепляет блестящим анализом ее поэтического строя.
В словах этих внимательному читателю не может не броситься прямая перекличка с приведенной выше характеристикой Гогена, содержащейся в одной из наиболее ранних статей Гумилева.
Перекличка эта свидетельствует о необычайной устойчивости основного ядра его поэтического мироощущения (хотя устойчивость эта не помешала непрямолинейному и сложному пути творческого становления Гумилева-поэта). В то же время в статьях о Кольридже и Соути ощущается, что они рассчитаны на запросы нового читателя, в сознании которого живы пережитые им недавно революционные годы и события.
В качестве предисловий к книгам горьковского издательства «Всемирная литература» были написаны также и другие две историко-литературные статьи позднего Гумилева - краткая биография и творческий портрет А. К. Толстого (где автор ставил себе лишь весьма скромную цель дать общедоступную, научно-популярную характеристику основных произведений поэта, не выходя за пределы прочно установленного и общеизвестного) и опубликованная посмертно превосходная статья «Поэзия Бодлера» (1920), цитированная выше. В ней творчество Бодлера рассматривается в контексте не только поэзии, но и науки и социальной мысли XIX в причем Бодлер характеризуется как поэт-"исследователь" и «завоеватель», «один из величайших поэтов» своей эпохи, ставший «органом речи всего существующего» и подаривший человечеству «новый трепет» (по выражению В. Гюго). «К искусству творить стихи» он прибавил «искусство творить свой поэтический облик, слагающийся из суммы надевавшихся поэтом масок» - «аристократа духа», «богохульника» и «всечеловека», знающего и «ослепительные вспышки красоты», и «весь позор повседневных городских пейзажей». Статья о Бодлере достойно завершает долгий и плодотворный труд Гумилева - историка и переводчика французской поэзии, внесшего значительный вклад в дело ознакомления русского читателя с культурными ценностями народов Европы, Азии и Африки.
Библиография 1. Автономова Н. С. Возвращаясь к азам //Вопросы философии- 1999 - №3- С.45 2. Гумилев Н.С. Наследие символизма и акмеизм // Письма о русской поэзии М.: Современник, 1990 – с.235 3. Келдыш В. На рубеже эпох // Вопросы литературы, 1993- №2 – С.26 4. Николай Гумилев.
Исследования и материалы. Библиография СПб: "Наука", 1994 55с 5. Павловский А.И. Николай Гумилев // Вопросы литературы - 2003- №10- С.19 6. Фрилендер Г. Н. С. Гумилев - критик и теоретик поэзии.: М 1999.
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях: